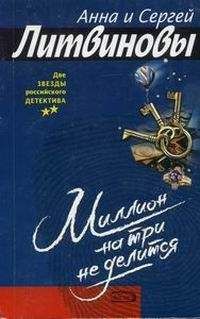Андрей Юрьев - Те, кого ждут
Владов знал средства от лунных бессонниц: крепкий кофе, крепкий поцелуй, крепкое рукопожатие наутро. Алхимики брачных контор снабдили его только водкой.
Я ВДЫХАЮ СВЕТ
- Ду-да-ду, - гудукнул домофон.
- Здравствуй, Андреевич! К Шпагину идем? Давай, выходи, у подъезда жду.
- Ду-да-ду, - чудакнул, щелкнулось, кракнуло.
- Владов, не дури. Зачем обойму берешь? Жду-не дождусь.
- Дурындак, - хрякнул динамик.
- Даниил Андреевич, положи нож, пожалуйста. На Де Ниро ты не тянешь, драки не будет.
- Схимма! - визгнул вызов.
- Положи нож, я им уже восхищался.
- Индрик!
- Сам ты дронт.
- Милош, хорош дудакать!
- Утю-тю. Кто-то спит?
- С тобой уснешь, пожалуй!
- Со мной не надо, я не петор.
- Черт хорватский!
Милош умудряется быть настырным без надоедливости. Звонит непрестанно, за порог не выйдет, не предупредив: "Алло! Даниил Андреевич! Как твое здоровье? Вот и молодец! А я за бабками пошел, к должничку". Здоровущий, сбитый, как зеленое молодильное яблоко, не смеется - гычет, по ладони бьет, здороваясь, так, что кости гудят. Бандюга хорватский!
Однажды договорились: если идут вдвоем, то обязательно по малолюдным переулкам - Борко всегда горланил какие-то гуделки, а Владов злился на косящихся прохожих. Подвыпив, мог и броситься зубодробительным намеком. Борко горланил горланки всегда.
К Шпагину ходили третий месяц. Заявлялись без записи, втаскивались без стука. Шпагин понимал: спорить бесполезно, выпроваживал посетителей, втыкался острыми штиблетами в паркет, раскачивался с пятки на носок, посвистывал:
- Постройка моста обойдется в семьсот тысяч. В казне - пятьсот. Где я возьму вам еще четыреста?
Борко багровел, Владов баловался лакированной зажигалкой - клинк! клинч! - звонкала "Зиппо", Владов любовался шлаковым оттенком полировки, втолковывал:
- Видите ли, дело не в количестве накопившихся процентов по долгу. Дело даже не в сроке выплаты, точно, не во времени. На меня работают выносливые, терпеливые люди, для нас это мелочи, беда не в этом. Вопрос ведь и не о том, в чьих интересах вынужденное перераспределение очередности выполнения заказов, потому что меня не интересуют ни большевизм, ни владычество белого духовенства, ни ваша псевдоаристократическая партия - удовлетворяйте своих верноподданных чем вам вздумается! Вы посещали представления певчего студенчества? Прекрасно! Сотня блеющих горлопанов, вы им прихлопываете, притопываете - это ладно, но! Вы всего лишь со! соучредитель! С какой стати вы от лица всей "Славии" пообещали им гонорары за антологию студенческой поэзии? Вы засоряете творческую среду, вы сорите, сорите ссорами и склоками, а эти бездари осаждают меня требованиями: "Ихде наши деньги?". Мне придется через прессу заявить, кто на самом деле отвечает за выплату авторских сумм...
Сегодня у шпилястой ратуши стояла тишина, тинились тени у черного входа.
Борко бряцнул связкой отмычек.
- Охтин, ты уверен?
- Выходной, охрана на празднике, он с Бэлой. Бэлу убедил, будет молчать.
Спели петли. Схлопотал пол топот. Шпагин, втиснувшийся в бедра свеженькой, мерно хлюпающей секретарши, вздрогнул...
Шварк! бензинкой в башку!
- Ты писал? Ты Крестовым писал? Спалю хайло! Сколько обещал? Сколько?
Пламенеющей бензиночкой в мэрские кудряшечки!
- Что, сучонок, шкворчишь? Из-за тебя вернутся! Ты возвратил их, ты! Ты соблазнил-таки, сука, куском хлеба с маслом соблазнил!
- В сейфе все, их сто, и ваши четыреста!
- Наших пятьсот, с процентами пятьсот! Умничка! Клара, пошли.
- Даниил Андреевич, знаете, что он буробил? "Бэлочка, станьте белочкой на моих коленях!". Пшел от меня, нечисть паленая!
Шпагин слягушатил на пол.
В коридоре Клара, оправляя беленькое платьице, расцвела цыганочкой:
- Позолоти ладошку, властный мой!
Борко успокоился: Охтин, оказывается, внял советам - пошел на Шпагина с обычной зажигалкой.
...всех героев нужно убить. Непременно. Иначе нельзя. Иначе не бывает. Где ты видел героя-долгожителя? Если выжил - в чем геройство? Справился со слабым противником? Отстоял свою свободу? Отстоялся, отбился, откусался? Кого спас? Справился со слабым противником? Попробуй справиться с превосходящими силами. С превосходящими силами справишься только уверенностью. Только доверием к своему образу, образу повелителя сердец. Конечно, муки преображения. Властолюбие, преображенное в любовь.
Итак, автор убивает литературного героя. Не приплетай мазохизм. Творец уничтожает творение. Уничтожает ли? Наслаждается властью над вымышленным владением? Уничтожает, не имея возможности повлиять на судьбу вымысла? Уничтожает ли? Избавляется от одного из собственных обличий. Обрывает пуповину. Снова связывает в узел властолюбие. Вновь плодовит. Убийство может быть косвенным - лишение плодовитости: наделение бесплодием, биологическим или творческим - лишение героя наследственности. Также - лишение собственности. Также - лишение ясности душевного состояния. Убить. Только так. Иначе врастешь в образ. Как Ницше. Убить безупречно, мастерски, на радость читателю, ликующему: "Он меня ничем не превосходит! Он не выжил!". Убить. Мазохизмом здесь не пахло. Близко не пахнет САМО-убийством. Ни один самоубийца не убивает СЕБЯ. Сбрасывает навалившуюся на сердце тяжесть. Умирая достойно, мстит мучителям - всему миру. Мстит, выказывая властность способность владеть своими достоинствами: всеми прочими способностями, составляющими особенность, собственность - проницательностью, смелостью, выносливостью, прочими. Мстит, уничтожая брошенные в душу семена обиды и страха. Мстит, показывая безжизненность сотворенного мучителями: насилия, внесенного в почву душевного состояния. Умирающий в отчаянии - стремится скрыться, избежать рабства, преобразиться во вполне властное существо, правящее творческими способностями окружающее пространство, правящее на свой лад. Среди самоубийц нет безбожников. Большинство их мечтает поприсутствовать на собственных похоронах. Стоп, я ошибся. Именно безбожники, не признающие верховенства Господа, не признающие господства превосходных. Безбожники с неудовлетворенным властолюбием. Пьянчуги божьей милостью, ослепленные вечностью, охмелевшие мечтой о преображении в бессмертников. Ни один из них не хотел бы разложиться, не верь слюнявым словам! Заметил, как клевещущие на жизнь заботливо обустраивают свой мирок жалобами? Им нужно освободиться из плена тоски? Они жаждут сокамерников!
Основной инстинкт - властолюбие. Инакомыслие - бред воспаленной похоти.
Башка, брат, болит. Пью много...
ЛУЧШЕ НИКОГДА, ЧЕМ ПОЗДНО
Клара никогда не опаздывала. Стоило только обмолвиться, как губы, чавкавшие: "Ох и сиськи! Почем граммчик?" - вздрагивали: "Владов?". Однажды, правда, вцепились в запястье: "Дэвишкь! О чем спешишь?" - и вливали жгучее, жидкое в глотку, надсаженную: "Он ждет! Нельзя, он же ждет!". Волокли за волосы на кухню под брызг официанток к телефону, вжимали в пол: "Дэвишкь! Не визжи, на плиту посажу, жопа жечь будет", - а все уже! выкуси! лобастый Борко яблоком вкатился, вмялся в давку, а Даниил Андреевич посадил Кларочку на плечо и шагнул - в нервные сполохи засыпающего города, в напевы колыбельных. Следом вынесли невнятно бормотавшую мякину.
Обычно Клара не опаздывала. В любом ресторанчике всегда подвернется официантик, смущенно шепчущий: "Борко просил поспешить. Пять минут еще, не больше". Обычно Владов выветривался в окне белой безвороткой. Курил, конечно. Если ты как флаг смирения перед ночью, как тут не выкуривать часы до забытья? Курил, конечно.
- Чем сегодня занимаетесь?
- Болтаю ногой четвертый день. Наблюдаю закон тяготения. Если б ногой не болтал совсем - сдох бы, наверно, от лени я. Вчера? Вчера ходил на охоту. Поймал красивейшую бабочку. Крылья пооборвал, измордовал, потом гонял по квартире тапочком. А все почему? Было солнце, пришла луна - ничего не пойму в природе: вроде, и не царь природы я, а так, на Бога пародия.
- Завели бы постоянную подружку...
- Заводятся вши. Нет, не спорю, оригинальная затея. Приятно, расколупывая женщину, слышать радостный и звонкий вопль ее.
- Нет, серьезно. Хорошо хоть мной пока любуетесь. Долго я с вами буду ютиться в одной постели? И вообще - зачем я вам нужна?
Зачем стены спирают воздух? Зачем тело стесняет душу? Зачем земля вбирает мертвых? Вы привыкли задаваться вопросами, которые звучат, как взбалмошные чайки в час прилива.
Охтин уже не стеснялся поворачиваться в профиль. В детстве дразнили: "Собака Баскервилей!". Высмеивали: "Месяц ясный!". Охтин, оскулившись, сцеживал: "Лучше быть ясным месяцем, чем двуногой скотиной!" - и челюсть, словно волнорез, врезал в кулачную сумятицу. Синяки носил с достоинством. Дед присвистывал ветром, склонял могильные тюльпаны: "С обновкой, что ли? Ух, щедро подарили! Чего Сашке не похвалишься?". А того! Сашка любит ножи. Но любит не настолько, чтобы беречь лезвие сухим и блестящим, как взгляд Данилки, восхищенно канувший в роскошную шлифовку лезвия. Сашка продолжал любить ножи. К Данил Андреичу ходили извиняться.