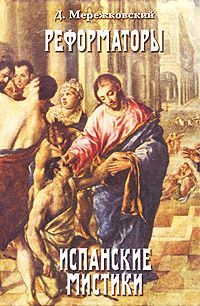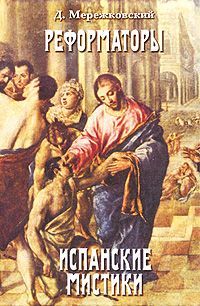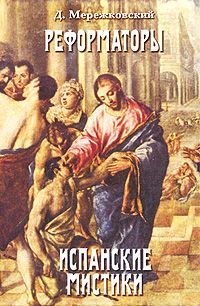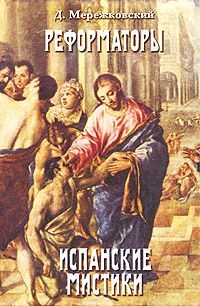Дмитрий Мережковский - Маленькая Тереза
Маленький намек на великое дело — Соединение Церквей, — то, что оба они, ересиарх и святая Западной Церкви, не чувствовали невыносимого для верующих православной Церкви кощунства в этих трех словах: Папа — почти Христос.
22
«Рим! Рим!» Этот радостный крик нормандских паломников услышала Тереза ночью, в вагоне, с такою же великою надеждой, с какой, четыре века назад, его услышал и Лютер, входя в Вечный Город. «В Риме надеялась я найти утешение, но, увы, нашла в нем только крест», — скажет Тереза; то же мог бы сказать и Лютер.
В первый же день по приезде посетила она Колизей. В то же время делались в нем раскопки, чтобы найти то место, где умирали мученики первых веков христианства.
К ужасу отца своего Тереза сбежала, точно упала или на крыльях слетела, между бревнами и досками строительных лесов, по срывавшимся из-под ног ее камням развалин, к указанной проводником гладкой и круглой площадке, где умирали эти мученики, припала губами к свежеразрытой, влажной, как будто святою кровью только что напитанной земле и целовала, целовала ее с ненасытной жадностью.
«Мученицей быть и мне, и мне дай, Господи!» — молилась она и чувствовала, что молитва ее будет исполнена.
Ту же ли муку примет и она, как те исповедники первых веков? Нет, иную, большую: лютый зверь не загрызет ее, палач не замучает, как тех; сама с собой она это сделает, и будет это мученичество внутренне страшнее, больнее внешнего; но чем больнее, тем упоительней. Знала, может быть, уже и тогда, что это сделает, когда холодная земля на той разрытой площадке согревалась от поцелуев ее так же, как некогда от горячей крови мучеников.
Землю, где оставили следы ноги их, целует сначала, а потом — ноги Папы. Между этими двумя целованиями — весь двухтысячелетний путь христианства с вечным вопросом Петра: «Господи, куда идешь? Domine, quo vadis?» — и вечным ответом Христа: «В Рим иду, чтобы снова распяться. Vado Roman iteram crucifigi». Может быть, Тереза об этом не думает, но сердцем это чувствует. Мукой, идущей от этого вопроса, будет вся ее жизнь и святость. «Страшны мне дела Рима», — могла бы сказать и она, как св. Тереза Испанская, да почти и говорит: «Я очень рада, что была в Риме, но понимаю тех, кто думал, что отец повез меня в Рим, чтобы изменить мысли мои о религии: в Риме, действительно, было то, что могло поколебать недостаточно твердое призвание к монашеству». Это для Маленькой Терезы значит: «В Риме можно потерять веру». Это и Лютер почувствовал и потерял веру в того, кто был для него до Рима «почти Христом», — в Папу. Кажется, и у Терезы вера эта была уже поколеблена.
«Шесть дней мы осматривали великие чудеса Рима, а на седьмой увидели величайшее из них, папу», — вспоминает она. «После обедни (в Сикстинской капелле) началась аудиенция. Папа сидел на высоком кресле, в очень простой белой сутане и в скуфейке того же цвета. Около него стояли кардиналы и другие князья Римской Церкви. Каждый богомолец, согласно с церемониалом, становился на колени, целовал сначала руку Его Святейшества, а потом ногу его и тотчас же, по знаку двух офицеров Апостолической гвардии, выходил в соседнюю залу, чтобы дать место следующему за ним по очереди. Все это делали молча. Но я твердо решила говорить, как вдруг стоявший справа от Его Святейшества аббат Реверони сказал нам громко, что запрещает говорить. Страшно забилось сердце мое, и, обернувшись к Селине, я ее спросила, молча, взглядом, и она ответила мне тоже взглядом: «Говори!»
«Ваше Святейшество, молю вас о великой милости», — начала я, и тотчас же Папа склонил лицо свое к моему так близко, что почти коснулся его. Черные-черные, глубокие глаза его как будто хотели проникнуть к самую глубину души моей.
«Ваше Святейшество, мне всего пятнадцать лет, но молю вас, в честь юбилея вашего, разрешите мне вступить в святую обитель Кармеля…» «Ваше Святейшество, — перебил меня главный викарий Байеский (аббат Реверони), очень удивленный и недовольный, — девочка эта желает вступить в Кармель, но старшие в Братстве еще не решили».
«Будьте же, дочь моя, послушны воле старших»,—ответил мне Папа.
Тогда, сложив руки и опираясь ими о колени его, я сделала еще последнюю попытку:
«Ваше Святейшество, если бы вы только сказали: «да», то все бы согласились…»
«Полно, полно, дочь моя, вы вступите в Кармель, если Богу будет угодно», — проговорил он, отчеканивая каждое слово и глядя на меня все так же пристально.
Все еще хотела я говорить, когда два офицера Апостолической гвардии, видя, что я продолжаю стоять со сложенными на коленях Его Святейшества руками, взяли меня под руки и подняли, а когда подымали, то Папа встал, благословил меня и долго еще провожал меня глазами».
Горе ее было так сильно, что она ничего не видела, не слышала и, казалось, была в беспамятстве, когда те два офицера очень вежливо, но беспощадно уводили ее под руки, как больную или пьяную. «Боже мой, какой позор для меня и для Монсеньора де Байе!» — думал в отчаянии аббат Реверони.
Как ни сильно было горе маленькой Терезы, может быть, еще сильнее был ужас ее, когда и в этом сухоньком, тоненьком, как будто из слоновой кости точенном, быстром и легком старичке, Льве XIII, вдруг почудился ей все тот же грозный Увалень, и, когда показалось ей, что разделившийся там, в Лизье, на четыре лица — первое — каменных глыб, второе — гнилых половиц, третье — топких грязей и четвертое — зыбучих песков — снова соединился он здесь, в Риме, в одно лицо непобедимого, в миру и в Церкви торжествующего диавола косности.
Сделаться мученицей — эта молитва ее в Колизее исполнится скорее, чем она могла надеяться, здесь же, в Риме, потому что главная мука всей жизни ее и будет борьба с бесконечною косностью мира и Церкви.
«Главной цели Кармеля — молиться за священников — я, до путешествия в Рим, не понимала, — вспоминает Тереза. — Радостно мне было молиться за грешных людей в миру, но не за священников, чьи души казались мне такими чистыми; только в Риме я поняла, зачем нужны эти молитвы». Здесь только, в Риме, поняла она, что молитвы за грешных священников нужнее, чем за грешных людей в миру, а за грешного Папу, может быть, нужнее всего.
23
Данте в раю, в небе Неподвижных Звезд, видит четыре пламенеющих факела — апостолов, Петра, Иакова, Иоанна, и первого человека, Адама.
Вдруг белое пламя Петра
Так, разгораясь, начало краснеть,
Как если бы свой белый свет Юпитер
Во рдеющий свет Марса изменил.
Хор блаженных умолк, и, в наступившей тишине,
Сказал мне Петр: «Тому, что я краснею,
Не удивляйся: ты сейчас увидишь,
Как покраснеют все от слов моих.
Престол, престол, престол мой, опустевший,
Похитил он и, пред Лицом Господним,
Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,
Где кровь и грязь — на радость Сатане!»
Кто это «он»? Только ли Папа Бонифаций VII, гонитель Данте? Нет, и тот, кто за Папой, — «Антихрист», как сказал бы Лютер.
Тогда все небо покраснело так,
Как на восходе иль закате солнца
Краснеет густо грозовая туча.
Заревом ада краснеет небо от стыда за Римскую Церковь. Самое страшное в этом Страшном суде над нею — то, что он так несомненен: кто в самом деле усомнится, что если бы Петр увидел то, что происходило в Римской Церкви за тринадцать веков до времени Данте и в последующих веках, то покраснел бы от стыда и сказал бы, что говорит у Данте:
Какого славного начала
Какой позорнейший конец!
Большего на нее восстания не будет ни у Лютера, ни у Кальвина, чем было у Данте, правоверного католика и вместе с тем первого великого «протестанта», в глубоком и вечном смысле этого слова: prutesto, «противлюсь», «восстаю».
Восстань, Боже, суди землю! (Пс., 82, 8).
«Слушаться Папы должны мы не так, как Христа (Бога), а лишь так, как Петра (человека), — учит Данте, и будет учить Лютер: вот Архимедов рычаг, которым низвергается земное владычество Папы в ложном Римском «Боговластии», «Теократии».
«Где Церковь, там Христос, ubi Ecclesia, ibi Christus: так для св. Франциска Ассизского и для всех святых после первых веков христианства, а для Данте наоборот: «Где Христос, там Церковь», ubi Christus, ibi Eccelesia.
Данте, в своем восстании на Римскую Церковь, сильнее, чем Лютер: только одно отрицание старого — обращение к Римской Церкви, голое «нет» — у Лютера, а у Данте — «нет» и «да», отрицание старого и утверждение нового. Лютер побеждает Римскую Церковь только частично и временно, а если бы победил Данте, то победа его была бы вечной и полной. Тихое восстание его, для мира и для самого восстающего не видимое, страшнее для Римской Церкви, потому что не внешне, а внутренне мятежнее, революционно-взрывчатее буйного и шумного восстания Лютера. Тише еще и невидимее будет восстание св. Иоанна Креста и св. Терезы Испанской. Самое же тихое и невидимое — у св. Терезы Лизьеской.