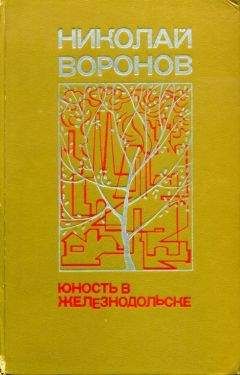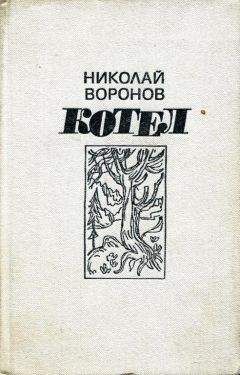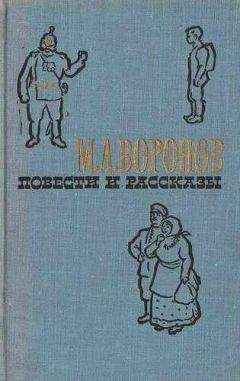Михаил Воронов - Детство и юность
В числе несчастных, учившихся вместе с нами танцеванию, находилась внучка одного купца, содержавшего торговые бани и трактир. Старик-купец жил постоянно в самых патриархальных нравах и отличался необыкновенной строгостью и силой, о которой и рассказывал постоянно. Некоторые опыты его силы я видел собственными глазами: так, он ставил сороковую бочку с маслом на попа (вертикально, на дно), свободно ломал две подковы и проч.
— Я в жизни моей никого не ударил, — обыкновенно рассказывал о себе дедушка. — Да как и ударить-то? Народ мелкий — сразу убьешь. А в торговле, господа честные, без этого не обойдешься: вот и стражду сам от себя!.. Один раз, — продолжал он, — жена меня больно доняла, вот я ей и поднес оплеуху, она так и покатилась. Я в полицию… Прибегаю… Так и так, говорю, жену убил — выручайте. Пошли мы с приставом домой, а она, волк ее уешь, сидит да лается: вот какая, черт, живучая была! Да, пострадал я от нее, покойницы, доняла!..
Часто отец от нечего делать ездил к купцу в баню и брал с собою кого-нибудь из нас. Потом мы отправлялись к старику-хозяину, и начинались рассказы с той и другой стороны: отец все про военную службу, купец — про старинное житье-бытье. Дедушка, подобно главе стоиков Сенеке, ежедневно ходил в баню, с тою только разницею, что древний философ делал это по нескольку раз в сутки, а старик только один раз, кроме субботы: тогда два.
— Да что! ходишь один-одинешенек, инда одурь тебя возьмет, — ну, и пойдешь в баню, да и попаришься, да еще скипидарцем помажешься, вот оно и ладно. А в субботу так зависть тебя одолеет, так бы все и сидел в бане, — вот потому и хожу в субботу два раза.
Старик всегда упрекал отца за неуменье пить водку.
— Вы, молодые люди (отцу было тогда шестьдесят пять лет), дрянь! Как мы были в ваших летах, по четверти выпивали зараз; а вы проглотите десятка полтора, два рюмок, да и с ног долой, это не дело…
Постоянно враждуя с откупом, сильно притеснявшим всех трактирщиков, он сам признавался, что раз даже нагнал на откупщика лихорадку. «Все по ветру сам пускал», — прибавлял добродушный купец.
Большой приязнью отца пользовался также его предместник, слепой старик, выслужившийся из рядовых. У старика была бойкая, сварливая жена, известная в городе под именем «озорницы» и управлявшая в последнее время вместо своего мужа пожарной командой. Семейство старого брандмейстера состояло, кроме того, из сына и двух дочерей, из которых одна только что вышла замуж и поселилась с мужем в главном нашем доме. Семейство брандмейстера посещало нас довольно часто, и в этом-то кругу впервые должны были устанавливаться мои понятия; тут в первый раз я услышал те суждения, выводы и взгляды, которые выработались тогдашним провинциальным обществом.
Старый брандмейстер и его семейство считались тогда далеко не последними членами нашего общества, а между тем из нескольких фактов, которые я приведу сейчас, легко будет видеть, как далеко ушло тогда это общество в своем умственном развитии.
Часто случалось нам скромно просиживать долгие вечера в обществе старого брандмейстера и всего его семейства. Как люди военные, отец и брандмейстер побывали в различных кампаниях, откуда унесли с собою чудесные воспоминания о различных диковинках. Зять брандмейстера, которого судьба бросала и в Малороссию, и в Архангельскую губернию, и в Якутскую область, тоже присоединял свой звучный голос к рассказам отца и брандмейстера; увлекаясь, за ним голосила старая брандмейстерша, а за нею, разумеется, плелись и ее дочки — тоже смышленые девицы. Чего-чего, бывало, тут не рассказывается! И о киевских ведьмах, и о колдунах, и о проклятых, обреченных на вечную скитальческую жизнь, и о громе, и об отводе глаз фокусниками, — одним словом, если бы вы желали получить превратные понятия обо всем, вы бы послушали рассказы наших добрых знакомых.
— Ведьмы, говорят, никогда пешком не ходят, — замечал старый брандмейстер.
Отец и зять брандмейстера, а за ним и мы все начинали хохотать.
— Что вы смеетесь? — возражал слепой. — Я сам не верил прежде, а теперь знаю, что это правда. У нас был солдат Захарченко, так сам видел, как ведьма ехала на курице, ей-богу!
— Нет, кажу, этого не может быть, — вступался зять, язык которого сохранил еще некоторый малороссийский оттенок.
— Бывает, бывает, — прерывал его отец, — многие видели…
— Я потому и говорю, что видел, — утверждал ободренный слепец, — я сам много ведьм видел, — прибавлял он наконец.
— Это ведьмы верхом ездят? — наивно спрашивал кто-нибудь из нас.
— Верхом, верхом, — нетерпеливо отзывался отец.
Матушка боязливо посматривала то на невинного расспросчика, то на отца, начинавшего уже хмуриться.
— А на лошадях верхом ведьмы ездят? — допытывался тот же любопытный.
— Ну, полно врать-то! — резко замечал отец. — Когда же баба ездит на лошади верхом?.. Вечно суетесь со своими глупостями. Вы бы молчали да слушали, что старшие говорят; а эти пустяки у няньки можете расспрашивать!
Ну, и присмиреет любопытный и дожидается, что скажут старшие, а они не заставят долго ждать себя.
— Вон, когда я был в Якутской области, так там все на собаках ездят, — рассказывал зять брандмейстера.
— В Англии, читал я в газетах, на крысах почту скоро будут возить — больно шибко бегают; на птицах уж возят, да теперь новый король народился, так на крысах приказано, — опять рассказывал седой и слепой брандмейстер.
— Там один лорд все на медведях ездит, — ввертывал звучным голосом зять.
— Эх, у нашего полкового командира славный медведь был! — вступался отец.
Разговор на некоторое время переставал быть общим, и только изредка слышалось, как замужняя дочь брандмейстера рассказывала матушке о петербургском деде.
— У него по сту человек генералов одних бывает каждый день — все обедают.
Но, не умея сообразить своих слов с действительностью, тотчас же отпускает такую фразу:
— Богач, одно слово… По шести тысяч на серебро проживает в год: ведь это, сообразите, двадцать с чем-то тысяч, говоря по-нашему.
И опять молчание.
— Нынче облако над нашей крышей так низко прошло, что я испужалась, — решалась наконец выговорить младшая дочь брандмейстера.
— А вот задело бы за крышу и своротило бы напрочь, — резонно замечала ее матушка.
— Нет, не своротит, — вступался зять.
— Как не своротит? Своротит! — утверждала опять брандмейстерша.
— Ну, меня-то вы, кажу, не уверите, я ведь видел облако-то.
Все смотрели на рассказчика с недоумением.
— Когда я был еще мальчиком, — продолжал он, — так у нас облако в поле упало, мы и побежали смотреть: так оно мягкое, как кисель, мы даже палками тыкали в него.
Против такого аргумента, разумеется, никто уже не мог возражать, и все остались в полнейшей уверенности, что облако похоже на кисель.
Слушаешь-слушаешь, бывало, подобные рассуждения старших и придешь наконец к такому заключению, что с кучерами хоть и не толкуешь о подобных возвышенных предметах, а все как-то веселее и отраднее.
Кроме этих знакомых, отец имел еще многое множество чиновников, с которыми водил хлеб-соль вследствие служебных обязанностей, а матушка — целую кучу различных старушек, уважавших ее за доброе сердце и гостеприимство. Из старушек, посещавших матушку, особенно живо сохранился в моей памяти образ одной доброй пожилой майорши, постоянно посещавшей матушку во время болезни, что случалось очень нередко, и искренне сочувствовавшей незавидному положению ее в семействе. Часто проживала у нас тоже по целым неделям какая-то девица, которая знала почти весь город, ходила по делам, разносила сплетни, но никто не знал, кто она такая. Постоянного жилища у ней не было, и она блуждала из дома в дом; и как только наскучало ей в одном месте, она сейчас же сочиняла про него сплетню, распускала ее по городу и, выгнанная за это, отправлялась в другое, обвиняя только что покинутый ею дом в невежестве, грубости и недобросовестности относительно ее. Так кочевала эта бедная девица до самого отъезда моего с родины и все оставалась таинственною и неразгаданною.
Не всегда, впрочем, отец был строг и недоступен; иногда и на него находили добрые минуты, в которые он разговаривал и смеялся с нами, позволяя даже маленьким сестрам трепать свои усы и бакенбарды. В одну из таких минут мы даже сумели как-то упросить его свозить нас в театр. Дело было на масленице, когда в театре давались два спектакля, утренний и вечерний. Нас повезли поутру. В кассе театра отец выторговал, кажется, полтину, и вот мы вошли в ложу. Небольшой, грязный зал освещался десятью или двенадцатью масляными лампами, отчего в креслах и глубине лож царствовала тьма, а в райке (галерее) слышны были только глухие голоса, из которых можно было заключить о пребывании там людей. Кусок дырявой, некогда раскрашенной холстины беспорядочно болтался то туда, то сюда; в оркестре сидело счетом восемь человек музыкантов, в течение целого часа занимавшихся настраиванием своих инструментов, — впрочем, публика не обращала особенного внимания на этот раздирающий душу визг и рев. Занавес заколебался и медленно стал подниматься вверх, и когда совершенно исчез за драпировкой, послышался резкий возглас: «Довольно!» Что давали в то время, не могу припомнить. Могу сказать только, что первое действие прошло совершенно не замеченным публикою и не понятым мною. Но, вероятно, давалась драма, потому что после нового поднятия занавеса и нового крика «Довольно!» на сцену явился господин в каком-то гнедом плаще и черно-бурой шляпе, свирепый и громогласный до того, что маленькие сестры юркнули в глубину ложи и не решались выйти оттуда. Он бродил сначала в совершенной темноте и все чего-то искал, алкая и рыкая. Наконец, остановившись у слабого подобия рампы, гнедой трагически произнес: «Затворите двери!» Дрожь пробежала по моему телу при этом реве. «Принесите свечи!» — опять рыкнул актер, и сестры начали хныкать в глубине ложи. Что дальше было, не помню хорошенько. Помню только, что тут является какая-то госпожа и останавливается в дверях. Герой наш, стоя на авансцене, скрестивши руки, громко произносит, увидевши ее: «Приди в мои объятья!» — «Ах, не обнимай меня так больно!» — взвизгивает госпожа, ухватившись обеими руками за юбку платья, и, делая книксен, продолжает стоять в дверях. После второго акта занавес как-то рухнул, и на сцене послышался опять прежний резкий голос. Раздались было аплодисменты, но голоса будочников скоро заглушили все. Следующие акты драмы прошли совершенно так же, то есть я ровно ничего не понял. После драмы давался какой-то водевиль, который, помню, мне понравился; но сестры никак не могли успокоиться и со слезами просили отца ехать скорее домой.