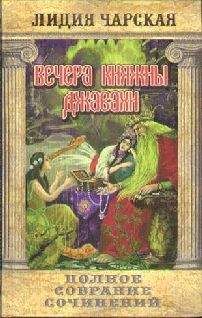Лидия Чарская - Вечера княжны Джавахи. Сказания старой Барбалэ
Как снег на голову упал Хочбар на аварцев. Появился нежданно-негаданно в аварском ханстве, владетелем которого был в то время могучий Нуцал.
Несколько селений и аулов сжег Хочбар, стер с лица земли несколько усадеб и поместий и готовился уже к новым нападениям, но внезапно люди Нуцала напали на него врасплох, заковали в цепи и доставили скованного, безоружного в столицу Аварии, ко двору самого Нуцала.
Был чудный день лучезарного востока… Синее небо — плавленная бирюза. Золотое солнце — янтарное море. Белые орлы в облаках — жемчужные каменья среди лазури небесного моря.
Парит день кавказского знойного лета и, раскаленные ласками солнца, дремлют аварские ущелья.
Но столица хана Нуцала не спит. На дворе ханского сераля собрался суд. Тут были и ученые — кадии и алимы, муллы и мудрецы и сам хан Нуцал среди них, как блистающий месяц среди своих созвездий.
В стороне ото всех стоит со связанными на спине руками Хочбар. Стоит с гордым видом, с надменным взором.
Знает свою участь Хочбар и готов встретить смерть без страха, как настоящий джигит.
Недолго длится суд: перечислив все вины Хочбара, судьи в один голос решили, что для разбойника не должно быть пощады, пусть умрет лютою смертью в огне.
Слуги Нуцала раскладывают костер посреди двора. На этом костре и сожгут Хочбара.
Вот уже последние поленья положили, вот зажгли дрова, и вспыхнуло золотое пламя.
Улыбается зловеще Нуцал.
— Что приумолк, горный соловей? Аль струсил перед смертью? Почему не споешь своей песни? — спрашивает Хочбара торжествующий хан.
— Отчего не спеть — спою, если дозволишь мне это, повелитель! Но со связанными руками трудно петь. Прикажи развязать мне руки, — отвечает Хочбар.
Дал на это свое согласие хан.
— Пой хорошенько! Чем слаще будет твои предсмертная песнь, тем жарче станет разгораться янтарное пламя на костре, — произнес он, глядя с насмешкой в лицо Хочбара. — Подожди только: хочу, чтобы и дети мои были здесь. Пусть и они послушают последнюю песню разбойника, пусть посмотрят, какая участь ждет душманов.
И велит позвать детей своих.
Выступив вперед, запел Хочбар.
И была его песнь сочна, как виноградная лоза Карталинии, медвяна, как вкус ананасного шербета, душиста, как аромат розы в саду, ярка и блестяща, как солнце востока, смела и задорна, как злой ветер в горах…
Вот что пел Хочбар за минуту до смерти:
«Слушайте, аварцы, песенку мою,
Слушайте, джигиты, то, что вам спою!
Расскажу в ней хану, как к нему давно
Лез Хочбар бесстрашный под вечер в окно.
И шальвары ханши, и убор для кос,
И бешмет любимый — все Хочбар унес!
Слушайте, аварцы, песенку мою,
Слушайте, джигиты, то, что вам спою.
У заснувших ханских молодых сестер
Снял с лилейных ручек праздничный убор,
Снял запястья, перстень — лучший хана дар,
Все себе присвоил, все украл Хочбар.
Слушайте, аварцы, песенку мою,
Слушайте, джигиты, то, что вам спою!
Ханского ручного, на глазах у всех,
Искрошил я тура под веселый смех.
Заглянул в овчарни и порой ночной
Всех баранов ханских взял к себе домой!
И угнал в аул свой, к матери моей,
Ханских златогривых дорогих коней.
Слушайте, аварцы, песенку мою,
Слушайте, джигиты, то, что вам спою!
Вот на кровлях саклей стон стоит, не стон,
Плач несется скорбный овдовевших жен.
Не вернутся, к бедным, снова их мужья.
Всех в глухом ущелье их прикончил я,
Шестьдесят джигитов шашкой зарубил,
Шестьдесят молодок по миру пустил.
Слушайте, аварцы, песенку мою,
Слушайте, джигиты, то, что вам спою!
Знайте же, аварцы, удаль вы мою,
Знайте, все то правда, все, о чем пою.
Эта песня, знайте, мой последний дар, —
На костер бесстрашно с ней взойдет Хочбар…»
Заслушались, зачарованные пением, Нуцал и его слуги. Помутились их головы, застлались очи…
Двое маленьких детей Нуцала подошли к самому певцу: сын и дочь. Слушают песнь тоже. Блестят детские глазенки, как розы, рдеют щечки детей.
— О, как дивно прекрасен голос певца, как прекрасен! — думают они.
И вдруг, — дикий вопль разбудил хана и его свиту.
Хочбар не пел больше, Хочбар с криком метнулся к стоявшим у самого костра ханским детям, схватил их на руки и вместе с ними бросился в пламя.
— Вот тебе месть Хочбара, Нуцал, и его последний подвиг! — крикнул разбойник с костра и снова запел свою песнь, под вопли и стоны детей и треск поленьев…
* * *Кончена сказка, — нет, не сказка, ибо она не выдумана, не сочинена, а сказание о том, что было на самом деле, если верить седым старикам.
Замолкла Барбалэ…
Молчит и Нина под впечатлением только что слышанного. В чернокудрой головке княжны вьются, кружатся мысли.
Два образа сплетаются, сливаясь в один, — образы Гирея и Хочбара…
И все же жалко Гирея, как каждого пострадавшего, хотя и по вине своей. Человека жалко.
И стоят, в памяти трогательные, переданные через Абрека, его слова:
— «В последнюю минуту жизни не забудет он ее, Нину, и её участия… Не забудет…»
— Нет! Нет! Нe Хочбар он… Не уснула еще в нем совесть! Или же проснулась опять!
И загорается в душе Нины невольная молитва. Молитва за Гирея…
Шестое сказание старой Барбалэ
Глупый Дев
Почему так тихо в Джаваховском доме?..
Почему бесшумно, чуть слышно, ступает в мягких чевяках батоно-князь, сбросив с ног обычные сапоги со шпорами? Почему бледно, как известь, смуглое лицо Георгия Джаваха?
И почему по изрытым морщинами щекам Барбалэ катятся слезы, а у Абрека, и у старого Михако беспокойно поблескивают под нахмуренными бровями встревоженные глаза?
Не мелькнет, как бывало, ни в тенистом саду, ни в старом доме красивое личико княжны-джан, не слышно райской птички ни на кровле, устланной коврами, ни в чинаровой аллее, ни в дальней беседке, увитой азалиями и ветвями диких роз. И сиротливо ржет в стойле одинокий Шалый. Где его хозяйка? Почему не мчится в горы с ним Нина-джан?
Княжна Нина лежит, багровая от жара, уже четвертый день в своей горнице. Старый доктор, друг князя, добрый старик с темными глазами, спрятанными за стеклами очков, дважды в день приезжает навещать больную, — берет горячую маленькую ручку, щупает пульс, считает секунды на круглых, как луковица, старинных часах…
Он смотрит на часы, а на него с надеждой и тревогой во взоре глядят, в свою очередь, князь Георгий, Михако, старая Барбалэ.
— Плохо дочурке моей? — шепчет в отчаянии князь, встревоженный до полусмерти.
— Надеяться надо. Бог на небе, молитва на земле, — отрывисто бросает врач.
Голос старика дрожит, глаза неспокойно, с тревогою впиваются в больную.
Жаль ему Нину. Знал он ее с младенческих лет. И мать её, красавицу-лезгинку из аула Безстуди, знал и лечил когда-то. Ужели за матерью отдавать смерти и дочь, это дитя с черными локонами, похожими на ночи востока, с глазами — звездочками Горийских небес?!
Смотрит с печалью старик на разметавшееся перед ним багровое личико, на хрипло клокочущую от дыхания грудку.
В горле Нины-джан вся её болезнь, — огромный нарыв, закрывший гортань, мешающий проникать воздуху, грозящий задушить больную.
— Как случилось это? Как? — спрашивает старик-доктор.
Печальным голосом поясняет князь несложную повесть:
— Было знойно до удушья. Блекли рдяные розы на кустах. Весь Гори прятался в домах, спасаясь от зноя — в ту пору. А она, княжна, носилась и джигитовала там внизу в долине и, вся мокрая, разгоряченная, влетела во двор, схватила ковш ледяной воды, принесенной из колодца, и выпила залпом прежде, нежели успели удержать ее. К вечеру свалилась с ног. На утро хрипела вот, как сейчас…
И жестом, исполненным отчаяния, князь Георгий указывает на дочь.
Мечется и бьется на подушках маленькое тело. Багрово-красное, сводится поминутно судорогою боли лицо.
Глаза вышли из орбит, огромные и блестящие, как маслины, смоченные росою, и в них целый мир темной муки и страдания. Клокочет и хрипит что-то в горле. Вот, вот, кажется задушит смертельный недуг, унёсет княжну.
— К вечеру привезу еще товарища-доктора с собою. Надо усыпить девочку и, разрезав нарыв, выпустить гной. Может статься, не поздно еще. Велик и милосерд Господь! Будем ждать его милостей!
И, не отводя затуманенных глаз от глаз княжны, доктор неловко, боком кланяется и выходит из опечаленного дома.
— Резать ее! — дико вскрикивает ему в след Барбалэ, — душу сердца моего, ласточку лесов пророка? Сизую горленку райских садов резать? Не дам! Не дам! Светлые и темные духи, смилуйтесь над нею! Ангел смерти, помедли, не заноси кинжала над счастием жизни моей! Помедли, прекрасный, смуглый гонец Господень!