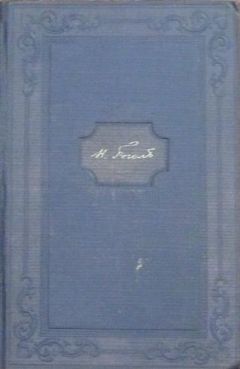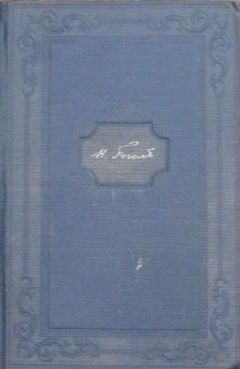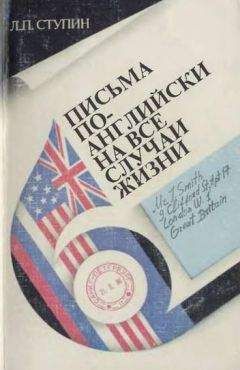Константин Паустовский - Бросок на юг (Повесть о жизни - 5)
Они хватали друг друга за руки и за грудь, замахивались прикладами, шипели и внезапно выкрикивали что-то стремительное и, очевидно, что-то невыносимо обидное, потому что каждый такой крик оканчивался общим негодующим воем.
Во время этой ссоры они не обращали на нас никакого внимания. В азарте они задевали и толкали нас, будто мы были невидимками.
Пожилой вожак сидел на бревне, курил, почесывал грудь и, казалось, не слышал этой непонятной ссоры. Потом он лениво встал, подошел к тому юноше, что взял у меня обручальное кольцо, схватил его за обрез и что-то сказал властно и коротко. Юноша стал наливаться кровью, но все же медленно полез в карман, вынул кольцо и отдал его вожаку. Вожак отобрал еще зажигалку и ручные часы, прикинул все это на вес на ладони, сунул за пазуху и сказал борцу:
- Иди куда хочешь, но назад не вернешься! - Дезертиры сразу стихли и, вытянувшись цепочкой, пошли следом за ним.
Мы стояли в недоумении.
- Что это значит? - спросил Самойлин.
- Это значит,- ответил борец,- что они пока что пропустили пас на Амтхел, но не пропустят обратно. Подкараулят где-нибудь здесь. Другой дороги нету.
Я ничего не понимал. Если они хотели ограбить и даже убить нас, то у них была полная возможность сделать это сейчас.
- Лучше ни о чем не думать,- посоветовал борец.- Кривая меня не раз вывозила. Вывезет и теперь. На озере поговорим. Но идти надо все-таки осторожно. Старайтесь, чтобы стволы буков закрывали вас от выстрела в спину.
Мы прошли ущелье и с обрыва в лесу увидели Марух. Он горел в небе, как голубой алмаз в гранитной оправе.
Все вокруг поражало меня смешением грандиозного и бесконечно малого, причем и то и другое было одинаково прекрасно: и отдаленные ледяные гребни Маруха, над которыми нависали громадные карнизы слежавшегося снега, и близкие мелкие цветы кизила на только что родившихся кустах. Кусты эти выглядывали из расщелин в скалах.
Вокруг нас толпилось огромное общество горных трав, хвощей, ворсистых оранжевых цветов, хвои, длинной, как вязальные спицы, и все это, разогретое солнцем, испускало смолистый и нежный запах.
Напряжение после встречи с дезертирами доконало нас. Мы просто упали в густой мох на скалу среди леса, похожую на громадный жертвенник, и пролежали часа два без всякого желания двигаться дальше.
Несколько раз в жизни мной овладевала мысль о соседстве мирной и безмятежной природы с человеческой жестокостью.
Впервые эта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека, когда в 1919 году в Полесье я увидел мальчика лет десяти, убитого бандитами в то время, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж и удил рыбу самодельной ореховой удочкой. Солнце горело над ним, а теплый ветер медленно проносил по небу пушистые облака.
Бандиты из какого-то подлого отряда какого-то подлого батьки Струка заметили мальчика с другого берега реки и, гогоча, расстреляли его, как мишень.
Местные лесовики, боясь бандитов и потому как бы оправдывая их, говорили, что "хлопцы" были пьяные. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания.
Я никогда не забуду нагретые солнцем волосы мертвого веснушчатого мальчика - милые, выгоревшие, детские и какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел. Но этот день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачать ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом.
И вот тогда, лежа в лесу по дороге на Амтхел, я подумал, что пять бандитов неизвестно почему хотели убить нас, а может быть, еще и убьют. Эта мысль привела меня в такое же состояние отвращения и. ярости, какое было тогда на реке Уж. Сразу оборвалась вся радость, все торжество природы.
Единственное, что постепенно успокоило меня, были напоминания природы какие-нибудь душистые чешуйки, прилипшие к моей губе, или ничтожный родничок, недоверчиво и осторожно пробиравшийся сквозь травянистые джунгли, боясь потерять дорогу к глубокой выемке в скале, где вода его собралась в синее озерцо.
Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир снизошел (как любили писать в старину) на смятенную человеческую душу.
Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов.
Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно: поворачивали, как по команде, "все вдруг", а при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела спиртовым огнем.
У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами.
Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, такой же загадочный, каким он казался издалека. Позади нас шуршали осыпи. А направо я боялся даже смотреть - там, рванувшись к небу, остановился, весь напряженный, казалось, до медного стона в своих жилах, угрюмый, непостижимый Марух.
В одном месте, очевидно из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя, в озеро.
То была река Азанда. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами, на заваленном скалами пляже, стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног и засасывала водоворотами в подземные страшные бездны все, что мы бросали в воду:
каждую ветку и каждый клочок бумаги.
Борец рассказал, что за двенадцать километров к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность пенистым потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца, к Черному морю.
Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше.
Я боялся пристально смотреть на Марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на Марух. Он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелий и в слабом колыхании альпийских лугов.
Я еще не знал, какие могут быть у Маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишаи на скалах, медленное передвижение теней - они крались к вершине, чтобы погасить ее свет, различал струи дыма, катившиеся, погромыхивая, вниз по склонам Маруха. Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей.
Вeсь день Марух стоял против нас, как бронзовый, позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит аттического героя - Геракла или Атланта. Конечно, Марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар.
Вечером Марух превратился из бронзового в сияющий до боли в глазах золотой самородок такой величины, что его блеск, очевидно, был заметен даже на луне.
- Теперь,- сказал мне Зацаренный,- живите в этой тишине, молчите, смотрите и думайте. В Сухум вернетесь другим человеком. Самого себя не узнаете.
Я с удивлением посмотрел на борца. Я не ожидал от него таких слов. До этого он казался мне человеком простоватым и недалеким.
Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя по существу никаких событий не было. Но все-таки...
Все-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и за кусты самшита.
Тогда я впервые узнал, что крошечный самшит, похожий на кустик нашей брусники (и с такими же мелкими кожистыми листиками), легко выдерживает тяжесть взрослого человека.
На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор.
В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак.
Пещера казалась необыкновенно уютной. Очевидно потому, что защищала от дождей, осыпей и ветров.
В пещере мы более или менее спокойно ели. Никто нам не мешал.
В первый же день мы по неопытности разложили еду на берегу, на разостланном плаще. Тотчас из воды вышла маленькая водяная курочка, приковыляла прямо ко мне и, крякнув, вырвала у меня из рук кусок хлеба. Я отнял у неё хлеб, но она начала драться и несколько раз больно ущипнула меня за палец.
Тотчас с берега приковыляло еще несколько совершенно непуганых курочек.
С тех пор мы ели осторожно и прятали рюкзаки с продуктами под камни. Но курочки все равно собирались около нас, как только мы начинали есть. Они толпились и толкались, пытаясь пробиться к нам поближе, наступали друг другу на перепончатые лапки и выщипывали перья.
Когда мы ловили их, они подымали неистовый крик, но только до тех пор, пока кто-нибудь из нас держал их в руках. Стоило отпустить курочку на землю, как она тотчас же начинала карабкаться к вам на колени и вырывать из рук любую еду.
Это нам нравилось. "Должно быть,- глубокомысленно сказал Задаренный,- так свободно вели себя звери только в раю".
С тех пор как мы появились на озере, водяные курочки держались только у того берега, где был наш бивак. Они старались далеко не отплывать, чтобы не пропустить кормежку.