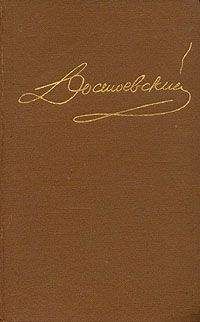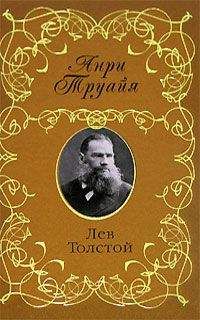Федор Достоевский - Том 10. Братья Карамазовы. Неоконченное. Стихотворения.
— Как отвечали? Кому? Разве вас кто-нибудь уже приглашал в Америку?
— Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это, разумеется, между нами, Карамазов, слышите, никому ни слова. Это я вам только. Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста*,
Будешь помнить здание
У Цепного моста!*
Помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам всё наврал? («А что, если он узнает, что у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот нумер „Колокола“*, а больше я из этого ничего не читал?» — мельком, но с содроганием подумал Коля).
— Ох, нет, я не смеюсь и вовсе не думаю, что вы мне налгали. Вот то-то и есть, что этого не думаю, потому что всё это, увы, сущая правда! Ну скажите, а Пушкина-то вы читали, «Онегина» — то… Вот вы сейчас говорили о Татьяне?
— Нет, еще не читал, но хочу прочесть. Я без предрассудков, Карамазов. Я хочу выслушать и ту и другую сторону. Зачем вы спросили?
— Так.
— Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете? — отрезал вдруг Коля и весь вытянулся пред Алешей, как бы став в позицию. — Сделайте одолжение, без обиняков.
— Презираю вас? — с удивлением посмотрел на него Алеша. — Да за что же? Мне только грустно, что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором.
— Об моей натуре не заботьтесь, — не без самодовольства перебил Коля, — а что я мнителен, то это так. Глупо мнителен, грубо мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что вы как будто…
— Ах, я усмехнулся совсем другому. Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи: «Покажите вы, — он пишет, — русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника.
— Ах, да ведь это совершенно верно! — захохотал вдруг Коля, — верниссимо, точь-в-точь! Браво, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение — это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами… Но все-таки немец хорошо сказал! Браво, немец! Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить…
— За что же душить? — улыбнулся Алеша.
— Ну я соврал, может быть, соглашаюсь. Я иногда ужасный ребенок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов наврать вздору. Слушайте, мы с вами, однако же, здесь болтаем о пустяках, а этот доктор там что-то долго застрял. Впрочем, он, может, там и «мамашу» осмотрит и эту Ниночку безногую. Знаете, эта Ниночка мне понравилась. Она вдруг мне прошептала, когда я выходил: «Зачем вы не приходили раньше?» И таким голосом, с укором! Мне кажется, она ужасно добрая и жалкая.
— Да, да! Вот вы будете ходить, вы увидите, что это за существо. Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтоб уметь ценить и еще многое другое, что узнаете именно из знакомства с этими существами, — с жаром заметил Алеша. — Это лучше всего вас переделает.
— О, как я жалею и браню всего себя, что не приходил раньше! — с горьким чувством воскликнул Коля.
— Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы произвели впечатление на бедного малютку! И как он убивался, вас ожидая!
— Не говорите мне! Вы меня растравляете. А впрочем, мне поделом: я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов.
— Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная, и я слишком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого благородного и болезненно восприимчивого мальчика! — горячо ответил Алеша.
— И это вы говорите мне! — вскричал Коля, — а я, представьте, я думал — я уже несколько раз, вот теперь как я здесь, думал, что вы меня презираете! Если б вы только знали, как я дорожу вашим мнением!
— Но неужели вы вправду так мнительны? В таких летах! Ну представьте же себе, я именно подумал там в комнате, глядя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень мнительны.
— Уж и подумали? Какой, однако же, у вас глаз, видите, видите! Бьюсь об заклад, что это было на том месте, когда я про гуся рассказывал. Мне именно в этом месте вообразилось, что вы меня глубоко презираете за то, что я спешу выставиться молодцом, и я даже вдруг возненавидел вас за это и начал нести ахинею. Потом мне вообразилось (это уже сейчас, здесь) на том месте, когда я говорил: «Если бы не было бога, то его надо выдумать», что я слишком тороплюсь выставить мое образование, тем более что эту фразу я в книге прочел. Но клянусь вам, я торопился выставить не от тщеславия, а так, не знаю отчего, от радости, ей-богу как будто от радости… хотя это глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости. Я это знаю. Но я зато убежден теперь, что вы меня не презираете, а всё это я сам выдумал. О Карамазов, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничтожить весь порядок вещей.
— И мучаете окружающих, — улыбнулся Алеша.
— И мучаю окружающих, особенно мать. Карамазов, скажите, я очень теперь смешон?
— Да не думайте же про это, не думайте об этом совсем! — воскликнул Алеша. — Да и что такое смешон? Мало ли сколько раз бывает или кажется смешным человек? Притом же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и залез во всё поколение, именно черт, — прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него Коля. — Вы, как и все, — заключил Алеша, — то есть как очень многие, только не надо быть таким, как все, вот что.
— Даже несмотря на то, что все такие?
— Да, несмотря на то, что все такие. Один вы и будьте не такой. Вы и в самом деле не такой, как все: вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже в смешном. А нынче кто в этом сознается? Никто, да и потребность даже перестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой, как все; хотя бы только вы один оставались не такой, а все-таки будьте не такой.
— Великолепно! Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами! Неужели и вы обо мне тоже думали? Давеча вы говорили, что вы обо мне тоже думали?
— Да, я слышал об вас и об вас тоже думал… и если отчасти и самолюбие заставило вас теперь это спросить, то это ничего.
— Знаете, Карамазов, наше объяснение похоже на объяснение в любви, — каким-то расслабленным и стыдливым голосом проговорил Коля. — Это не смешно, не смешно?
— Совсем не смешно, да хоть бы и смешно, так это ничего, потому что хорошо, — светло улыбнулся Алеша.
— А знаете, Карамазов, согласитесь, что и вам самим теперь немного со мною стыдно… Я вижу по глазам, — как-то хитро, но и с каким-то почти счастьем усмехнулся Коля.
— Чего же это стыдно?
— А зачем вы покраснели?
— Да это вы так сделали, что я покраснел! — засмеялся Алеша и действительно весь покраснел. — Ну да, немного стыдно, бог знает отчего, не знаю отчего… — бормотал он, почти даже сконфузившись.
— О, как я вас люблю и ценю в эту минуту, именно за то, что и вам чего-то стыдно со мной! Потому что и вы точно я! — в решительном восторге воскликнул Коля. Щеки его пылали, глаза блестели.
— Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни, — сказал вдруг отчего-то Алеша.
— Знаю, знаю. Как вы это всё знаете наперед! — тотчас же подтвердил Коля.
— Но в целом все-таки благословите жизнь.
— Именно! Ура! Вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов. Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет, не ровня, вы выше! Но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе: «Или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же разу разойдемся врагами до гроба!»
— И говоря так, уж, конечно, любили меня! — весело смеялся Алеша.
— Любил, ужасно любил, любил и мечтал об вас! И как это вы знаете всё наперед? Ба, вот и доктор. Господи, что-то скажет, посмотрите, какое у него лицо!
VII ИлюшаДоктор выходил из избы опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он всё боялся обо что-то запачкаться. Мельком окинул он глазами сени и при этом строго глянул на Алешу и Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь пред ним, остановил его для последнего слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный: