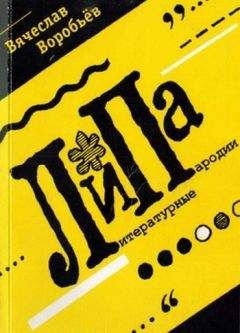Владимир Набоков - Под знаком незаконнорожденных
Но неужели и впрямь все было таким грубым? Кто там прячется за робкими режиссерами? Нет сомнений, вот эта парта, за которой оказался сидящим Круг, в спешке заимствована из другой декорации и больше похожа на стандартную принадлежность университетской аудитории, чем на штучное изделие из Кругова детства с его зловонной чернильной ямой (ржа, чернослив) и перочинными шрамами на крышке (которой можно было похлопать), и с особенной формы кляксой — озеро Маллр. Нет также сомнений: что-то не так с расположением двери, к тому же сюда торопливо согнали нескольких студентов Круга, неразличимых статистов (сегодня датчане, римляне завтра), дабы заполнить бреши, оставленные теми его однокашниками, что оказались менее мнемогеничными, нежели остальные. Но среди режиссеров или рабочих сцены, отвечавших за декорации, был один... трудно выразить это... безымянный, таинственный гений, который использовал сон для передачи собственного причудливого тайнописного сообщения, никак не причастного к школьным дням, да и к любой из сторон физического существования Круга, но как-то связующего его с непостижимым ладом бытия, возможно, ужасным, возможно, блаженным, возможно, ни тем ни другим, со своего рода трансцендентальным безумием, таящимся в закоулках сознания и не желающим определяться точнее, сколько Круг ни напрягает свой мозг. О да, освещение скудно и поле зрения странно сужено, словно память закрывшихся век продолжает упорствовать в сепиевых сумерках сна, словно оркестр ощущений сократился до нескольких туземных инструментов, а соображает Круг во сне хуже, чем подвыпивший дурень; но более пристальное рассмотрение (производимое, когда Я сновидений умирает в десятитысячный раз, а дневное Я в десятитысячный раз наследует эти пыльные безделушки, эти долги, эти пачки неудобочитаемых писем) открывает существованье кого-то, кто в курсе всех этих дел. Был тут некий пролаза, на цыпочках крался по лестнице, рылся в шкафах, чуть-чуть изменяя порядок вещей. А потом иссохшая, вся в мелу, невероятно легкая губка впивает воду, пока не становится сочной, как плод, и пишет блестящие черные арки по лиловатой доске, стирая мертвые белые символы, и мы начинаем наново, соображая смутные сны с ученой точностью памяти.
Вы входили в обыкновенный туннель; он пронизывал тулово дома, не важно какого, и приводил вас во внутренний двор, покрытый старым серым песком, обращавшимся в грязь при первых брызгах дождя. Здесь играли в футбол в тусклые ветренные промежутки между двумя рядами уроков. Зев туннеля и школьная дверь — в противоположных концах двора — становились воротами, так же, примерно, как обыкновеннейший орган одного животного вида резко преобразуется в другом новым для него назначением.
Порой сюда тайком приносили и осторожно распасовывали в углу настоящий футбол с красной печенью, плотно заправленной под кожаный корсет, с именем английского изготовителя, пересекающим аппетитные ломти его жесткой и звонкой округлости, но то был запретный предмет для двора, окруженного хрупкими окнами.
Вот он, наш мяч, гладкий, каучуковый мяч, разрешенный властями, вдруг оказавшийся в стеклянной витринке подобно музейному экспонату: собственно, три мяча в трех витринах, ибо нам демонстрируют все его возрастные стадии: вначале — новенький, чистый, почти что белый — белый, как брюхо акулы; потом грязный, серый — взрослый — в зернах песка на видавших виды щеках; потом — дряблый и бесформенный труп. Звенит звонок. Снова музей темнеет, пустеет.
Наподдай, Адамка! Удар, направленный в белый свет, как и осмотрительное вбрасывание, редко кончались дрязгом бьющегося стекла; напротив, прокол обыкновенно следовал за столкновением с некоторым зловредным выступом — с углом надкрылечной кровли. Смертельная рана мяча обнаруживалась не сразу. Лишь при следующем сильном ударе воздух жизни начинал истекать из него, и скоро он уже шлепал подобно старой галоше, а потом замирал жалкая медуза из запачканного каучука на грязном песке, — и жестоко разочарованные бутсы разносили его в клочки. Конец ballona [праздничного собрания с танцами]. Сидя у зеркала, она снимает алмазную тиару.
Круг играл в футбол [vooter], а Падук — нет [nekht]. Круг, плотный, толстощекий, курчавый мальчишка, щеголявший в твидовых бриджах с пуговками ниже колен (футбольные трусы запрещались) толокся по слякоти, вкладывая в это занятие больше рвения, чем умения. Он обнаружил теперь, что мчится (ночью, балда? Точно, ребята, ночью) по чему-то похожему на рельсовый путь в длинном, промозглом туннеле (постановщик сна использовал для передачи "туннеля" первую же подошедшую декорацию, не потрудившись убрать ни рельс, ни красноватых ламп, что через равные промежутки тлели на черных, каменных, запотелых стенах). В ногах у него болтался тяжелый мяч, при каждой попытке наподдать по нему он каждый раз об него запинался; в конце концов, мяч как-то застрял на полке каменной стены, в которую там и сям вкрапливались витринки, приятно освещенные, оживленные разного рода аквариумными выдумками (кораллы, раковины, шампанские пузырьки). В одной из витрин сидела она, снимая свои чистой росы перстни и расстегивая бриллиантовый collier de chien, обнимавший ее полное белое горло; да, избавляясь от всех земных драгоценностей. Ощупью он поискал на полке мяч и выудил туфлю-лодочку, красненькое ведерко с картинкой — лодка под парусом, — ластик, — все это как-то слепилось в мяч. Труден был дрибблинг в зарослях рахитичных лесов, где, чувствовалось, он мешает рабочим, починяющим проводку или что-то еще, и когда он достиг вагон-ресторана, мяч закатился под один из столов и там, полускрытое упавшей салфеткой, находилось преддверье ворот, потому что ворота и были дверью.
Если вы открывали эту дверь, вы обнаруживали нескольких [zaftpupen] "слабаков", млеющих на широких приоконных диванах за одежными виселицами, был тут и Падук, кушал что-нибудь сладколипучее, поднесенное дворником, ветераном-медалистом с почтенной бородой и похабными глазками. Когда звенел колокольчик, Падук пережидал, пока не утихнет сумятица чумазых, раскрасневшихся, мчавших по классам мальчишек, а там спокойно всходил по лестнице, липкой лапкой лаская перила. Круг, задержавшийся, чтобы припрятать мяч (под лестницей стояла большая коробка для игрушек и фальшивых драгоценностей), перегонял его и походя щипал за пухлые ягодицы.
Отцом Круга был биолог с солидной репутацией. Отцом Падука был мелкий изобретатель, вегетарианец, теософ, большой знаток дешевой индийской премудрости; одно время он, вроде бы, занимался издательским делом, печатая в основном труды придурков и неудачливых политических деятелей. Мать Падука, дряблая, лимфатическая женщина из Заболотья, скончалась родами, а вскоре за тем вдовец женился на молодой калеке, для которой он изобрел костыли нового типа (она же пережила и его, и костыли, и все остальное и по сию пору где-то еще хромает). Мальчик Падук имел тестообразное личико и серо-сизый череп в шишках: раз в неделю папаша лично брил ему голову: какой-то мистический ритуал, не иначе.
Неизвестно, откуда взялось прозвище "жаба", потому что в его лице не было ничего, напоминавшего об этом животном. Странное было лицо — все черты на должном месте, но какие-то расплывчатые черты, ненормальные, словно бы мальчика подвергли одной из тех пластических операций, для коих кожу заимствуют с какой-то иной части тела. Впечатление это порождалось, возможно, неподвижностью черт: он никогда не смеялся, а если ему приходилось чихнуть, то чихал он почти не меняясь в лице и совершенно беззвучно. Смертельно белый носик и опрятная белая в полосочку рубашка придавали ему en laid сходство с восковым школяром из портновской витрины, разве бедра у него были куда пухлей манекеновых, да ходил он слегка враскоряку, да носил сандалеты, навлекавшие на него множество ядовитых острот. Однажды, когда его сильно помяли, обнаружилось, что он надевает прямо на голое тело зеленую нижнюю рубаху, зеленую, будто бильярдное сукно, да, похоже, из него и пошитую. У него были вечно липкие руки. Говорил он удивительно ровным носовым голоском с сильным северо-западным акцентом и имел раздражающую привычку называть своих однокашников анаграммами их имен Адам Круг, к примеру, был Гумакрадом или Драмагуком; делал он это не из какого-то там чувства юмора, таковое у него напрочь отсутствовало, но потому, что следует (он старательно объяснял это каждому новичку) постоянно иметь в виду, что все вообще люди состоят из одних и тех же двадцати пяти букв, только по-разному смешанных.
Эти черточки легко извинялись бы, будь он приятным малым и добрым товарищем — свойским оторвягой или симпатично эксцентричным мальчишкой с более чем прозаической мускулатурой (случай Круга). Падук же, при всех его странностях, был скучен, зауряден и нестерпимо подл. Поразмыслив задним числом, неожиданно заключаешь, что в области подлости он был подлинным героем, поскольку всякий раз, углубляясь в нее, он с несомненностью знал, что снова вступает на путь, ведущий в ад физической боли, куда его всякий раз и ввергали мстительные одноклассники. Странно, однако ж, что мы не можем припомнить ни единого определенного примера его подличанья, хоть живо помним, что приходилось сносить Падуку за его позабытые прегрешения. Взять хотя бы историю с падографом.