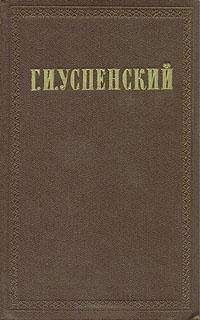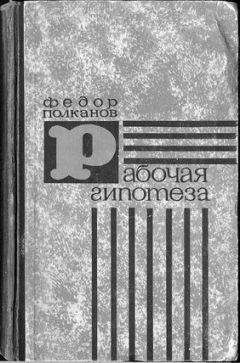Фазиль Искандер - Школьный вальс, или Энергия стыда
-- Я это еще до школы знал,-- напоминает дядя Самуил о своей давней математической загадке, которую я первым разгадал.
Тетушка листает страницу. На следующем развороте сразу две оценки ниже на балл.
-- "Хор", "хор",-- несколько разочарованно произносит тетушка, последовательно на обеих страницах прочитав оценки. Она смотрит на меня с легким укором, как бы говоря: конечно, "хор" неплохая оценка, но нельзя же считать себя отличником и получать подряд две хорошие оценки.
Вдруг она переводит взгляд на моего приободрившегося брата и взглядом говорит ему: а ты не радуйся, тебе до этого, знаешь, как далеко?
Я с ужасом жду третьей страницы. Там, на третьей и четвертой страницах, идут две оценки -- "посредственно" и "хорошо", именно в такой последовательности.
-- "Пос",-- читает тетушка и тут подключается в работу, до этого слабо подыгрывавшая, ее артистическая жилка. Она смотрит на меня, потом на брата, потом снова на меня, как бы с тайным содроганием начиная находить между нами черты духовного сходства.
-- Дье,-- произносит она ненавистное мне междометие, означающее горестное недоумение. Тетушка говорит по-русски совершенно чисто, она еще знает и абхазский, и грузинский, и турецкий, и персидский языки. Так что иногда она вставляет в свою русскую речь какие-то неизвестные мне междометия, которые помогают ей выражаться острей, чем позволяют привычные языковые средства.
-- Дье,-- повторяет она и беспомощным движением протягивает тетрадь моему соседу, словно внезапно проявившаяся слабость зрения заставила ее увидеть такую невероятную оценку.-- Самуил, наверное, я плохо вижу, что здесь написано?
-- "Пос",-- отчетливо и без каких-либо личных чувств произносит Самуил, на миг заглянув в тетрадь. Он это произносит с той давней своей интонацией человека, который раз и навсегда решил держаться в скромной, но зато всегда чистоплотной близости к фактам.
-- Следующая "хор",-- добавляет он, суховато утешая тетушку, но опять же только за счет возможностей самих фактов.
-- "Хор",-- горестно повторяет тетушка и смотрит на меня, слегка покачивая головой, в том смысле, что и отличная оценка была бы после такого падения довольно слабым утешением, а что же может сделать это малокровное "хор"?
Слегка послюнявив палец, тетушка медленно, увы, якобы не ожидая ничего хорошего, а на самом деле именно ожидая, но только для меня делает вид, что особенно мне сейчас неприятно, потому что я-то знаю, что дальше никакого просвета нет. И вот она наконец печальным движением перелистывает страницу, как книгу горестной судьбы. Что я чувствую? Я чувствую, что заполнен позором, у меня такое ощущение, словно у меня поднялась большая температура, отупляющая все восприятия, но и сквозь свои притупленные восприятия я все еще почему-то думаю, что хорошо бы все это закончить до прихода дяди с работы. Хотя теперь это не имеет большого значения, мне почему-то хочется выиграть эту маленькую ставку.
Сам я в тетрадь не смотрю. Я смотрю на своего сумасшедшего дядюшку. И так как я смотрю на него довольно пристально, он начинает слегка нервничать. Сначала пожимает плечами в том смысле, что он лично к этой проверке тетрадей никакого отношения не имеет и не понимает, почему моя укоризна направлена на него. Он чувствует, что происходит какая-то проверка моей учебы и что эта проверка для меня неблагополучна.
Он сидит, положив ладони на колени, и смотрит перед собой немигающим взглядом своих зеленых глаз. Он как бы говорит мне своим взглядом: я в твоих учебных делах не разбирался, не разбираюсь и не хочу разбираться... Вот придет время пить чай, я его с удовольствием выпью и пойду с бабушкой спать, а остальные меня мало интересуют...
Но дядюшка ошибается, думая, что я на него смотрю с обычной целью подразнить его. Нет, на этот раз я на него смотрю с тоскливой завистью. Хорошо жить, как он, думаю я, ни за что не отвечать, ничего не стыдиться, не ведать, что делается вокруг.
А между тем эта моя страница в кровоточащих рубцах красных чернил. Это следы гневных ударов пера Александры Ивановны.
-- Пло-хо,-- читает тетушка по слогам и растерянно оглядывает окружающих,-- но вот эти восклицательные знаки для чего?
После оценки Александра Ивановна поставила три восклицательных знака, барабанные палочки, выбивающие тревожную дробь по поводу резкого ухудшения работы моей головы. Наверное, тетушка и в самом деле не может понять, для чего эти восклицательные знаки в таком количестве, но нет, скорее всего ее артистизм доигрывает, дополняет мою катастрофу, она как бы внушает окружающим истолковать эти восклицательные знаки, как признак утроенности моей плохой оценки.
-- Подумаешь, большое дело, да?! -- говорит дядя Алихан, по доброте своей пытаясь отвлечь внимание тетушки от моих оценок.-- Я кофейни-кондитерские терял и то жив-здоров?!
Он смотрит на тетю своими круглыми глазами, потом на остальных, как бы говоря: ну-ка, напрягите свое воображение и попробуйте представить, что страшнее: временное ухудшение учебы этого мальчика или же полная потеря прекрасной кофейни-кондитерской. Представляете, какая разница?
Но никто не хочет напрягать воображение и сравнивать его кофейню-кондитерскую с моей учебой. Тем более этого не хочет тетушка. Тетушка обращает свой взор, выражающий затравленность доброй женщины бесчувственными племянниками, на дядю Самуила:
-- О, помогите несчастной!
-- Восклицательный знак означает усиление интонации! -говорит дядя Самуил несколько хмуро. Он показывает своим голосом неизменность своего желания не отходить от фактов и в то же время самой хмуростью своей интонации как бы признает некоторую неуместную поспешность, проявленную им много лет назад, когда он похвалил мои математические способности. Дело в том, что именно эта моя домашняя работа была связана с неправильным решением арифметической задачи.
-- Но почему три, Самуил? -- умоляет тетушка.
-- Усиление интонации! -- повторяет дядя Самуил, упрямо давая знать, что расшифровывать усиление интонации не будет.
-- С тремя восклицательными знаками даже брат твой не приносил,-- говорит тетушка и смотрит на брата.
-- Никогда! -- подтверждает брат.
Я понимаю, что восклицательные знаки означают степень тревоги Александры Ивановны, а не что-нибудь другое. Но стоит ли сейчас оправдываться? Тем более, что это займет лишнее время и тетушкин разбор может затянуться до прихода дяди.
-- Пос! -- читает тетушка следующую оценку, и так как спектакль ужаса уже прошел эту степень, уже сцена удивления посредственной оценкой была продемонстрирована, она не знает, что сказать, и листает тетрадь дальше. Но дальше ничего нет.
-- Дье,-- говорит она, глядя на чистый разворот, как бы осознавая еще одну форму обмана, которую я ей неожиданно подсунул. Она несколько растеряна. Она хотела бы еще несколько новых сцен ужасов показать, а тут сама пьеса оборвалась. Она в растерянной задумчивости отворачивает назад последнюю страницу, словно взвешивая, не разыграть ли ее по-новому, но, видно, так и не решив, повторяет с выражением брезгливости:
-- Пос...
Сейчас в ее произношении эта оценка приобретает оттенок какого-то особого позора, какой-то жалкой бездарности. Словно я и не утонул в болоте, но и не вырвался на чистый берег, а так, все еще барахтаюсь в мерзостной тине возле берега. Уж лучше бы совсем утонул!
Тетушка, подпершись ладонью, сидит в горемычной позе.
-- Хватит, отстань от мальчика,-- говорит бабушка по-абхазски, чтобы дядя Алихан и дядя Самуил не поняли ее. Тетушка на ее слова не обращает никакого внимания. Она молча сидит за столом, подпершись ладонью, и голова ее слегка подрагивает, как бы подтверждая бесконечный, как жизнь, список разочарований, и одновременно это подрагивание головы означает старческую слабость.
-- И вот на кого сгубила я свои лучшие годы,-- говорит она, не меняя позы и только слегка усиливая подрагивание головы. Имеет в виду она меня и моего старшего брата.
-- Я не согласен,-- твердо возражает дядя Самуил и кивает на меня,-- этого еще можно исправить... А старшего надо ремеслу учить...
Я сижу, опустив голову, искоса следя за происходящим. Мне очень стыдно, но и стыдясь, я помню, что будет еще стыдней, если дядя мой все это застанет. Поэтому никакого оправдания, ни одной щепки в этот костер.
-- Нет, Самуил, не утешай меня,-- говорит тетушка, не меняя позы и меланхолично вглядываясь в свою напрасно прожитую жизнь.-- Лучше бы я сюда совсем не возвращалась... Лучшие годы сгубила...
Тетушка была замужем за каким-то провинциальным персидским консулом, который в свое время жил в нашем городе, а потом увез ее в Персию. Потом она оттуда приехала без консула, одна. Об этом с детства говорили в нашем доме. И о том, что она, бросив консула, вернулась на родину, тоже говорили как-то естественно, словно консул этот от старости развалился, и ей ничего не оставалось, как приехать домой.