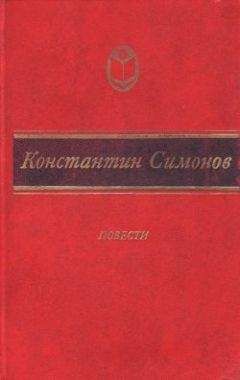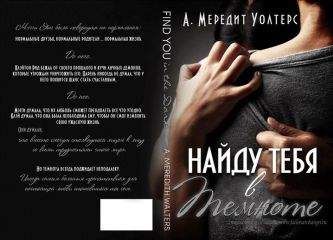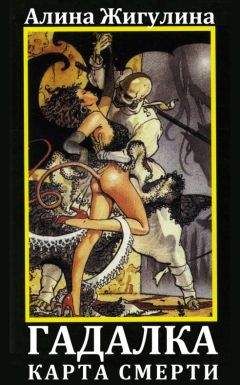Александр Солженицын - Бодался телёнок с дубом
Я не понимал степени своей приобретённой силы и, значит, степени дерзости, с которой могу теперь себя вести. Я сохранял инерцию осторожности, инерцию скрытности. И та и другая были нужны, это верно, потому что случайный прорыв с "Иваном Денисовичем" нисколько не примирял Систему со мной и не обещал никакого лёгкого движения дальше.
Не обещал движения, да, - но пока, короткое время, два месяца, нет, месяц один, я мог идти безостановно: холопски-непомерная реклама открыла мне на этот месяц все редакции, все театры!
А я не понимал... Я спешил сам остановиться, прежде чем меня остановят, снова прикрыться, притвориться, что ничего у меня нет, ничего я не намерен. Как будто возврат этот был возможен! Как будто теперь упустили бы меня из виду!
И ещё, за невольным торжеством напечатания я плохо оценивал, что мы с Твардовским не выиграли, а проиграли: потерян был год, год разгона, данного XXII-м съездом, и подъехали мы уже на последнем доплеске последней волны. По скромным подсчётам я клал себе по крайней мере полгода, а то и два года, пока передо мной заколотят все лазы и ворота. А у меня был один месяц - от первой хвалебной рецензии 18 ноября до кремлёвской встречи 17 декабря. И даже ещё меньше - до первой контратаки реакции 1 декабря (когда Хрущёва натравили в манеже на художников-модернистов, а задумано это было расширительно). Но и за две недели я мог бы захватить несколько плацдармов! объявить несколько названий моих вещей.
А я ничего этого не сделал из-за ложной линии поведения. Я собирался "наиболее разумно использовать" кратковременный бег моей славы, но именно этого я не делал - и во многом из-за ложного чувства обязанности но отношению к "Новому миру" и Твардовскому.
Это надо верно объяснить. Конечно, я был обязан Твардовскому - но лично. Однако я не имел права считаться с личной точкой зрения и что обо мне подумают в "Н. Мире", а лишь из того исходить постоянно, что я - не я, и моя литературная судьба - не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих поздних лагерных открытий. Как Троя своим существованием всё-таки не обязана Шлиману, так и наша лагерная залегающая культура имеет свои заветы. Потому, вернувшись из мира, не возвращающего мертвецов, я не смел клясться в верности ни "Новому миру", ни Твардовскому, не смел принимать в расчёт, поверят ли они, что голова моя нисколько не вскружена славой, а это я плацдармы захватываю с холодным расчётом.
Хотя по сравнению с избыточной осторожностью новомирские оковы были на мне - вторичные, а всё ж заметно тянули и они.
У меня, как и предсказывал А. Т., просили "каких-нибудь отрывков" в литературные газеты, для исполнения по радио - и я должен бы был без промедления их давать! - из "Круга", уже готового, из готовых пьес, и так объявленными названиями остолблять участки, с которых потом не легко меня будет сбить. В четырёхнедельной волне ошеломления, прокатившейся от взрыва повести, всё бы у меня прошло беспрепятственно - а я сказал: "нет". Я мнил, что этим оберегаю свои вещи... Я горд был, что так легко устаиваю против славы...
Ко мне ломились в дом и в московские гостиничные номера корреспонденты, звонили из московских посольств в рязанскую школу, слали письменные запросы от агентств, даже с такими глупыми просьбами, как: оценить для западного читателя, насколько блестяще "разрешил" Хрущёв кубинский конфликт. Но никому из них я не сказал ни слова, хотя беспрепятственно мог говорить уже очень много, очень смело, и всё бы это обалдевшие корреспонденты разбросали по миру. Я боялся, что начав отвечать западным корреспондентам, я и от советских получу вопросы, предопределяющие либо сразу бунт, либо унылую верноподданность. Не желая лгать и не осмелев бунтовать, я предпочёл - молчание.
В конце ноября, через десяток дней после появления повести, художественный совет "Современника", выслушав мою пьесу ("Олень и шалашовка", тоже уже смягчённая из "Республики труда"), настойчиво просил разрешить им ставить тотчас, и труппа будет обедать и спать в театре, но за месяц берётся её поставить! И то было верное обещание, уж знаю этот театр. А я - отказал...
Да почему же?? Ну, во-первых я почувствовал, что для публичности нужна ещё одна перепечатка, это - семь чистых дней, а при работе в школе и наплыве бездельно-восторженной переписки - как бы и не месяц. "Современник" шёл и на это, пусть я текст доизменю на ходу, - так я не мог бросить школу! Да почему же? а: как же так вдруг стать свободным человеком? вдруг да не иметь повседневных тяготящих обязанностей? И ещё: как же ребятишек не довести до конца полугодия? кто ж им оценки поставит? А тут ещё, как назло, нагрянула в школу инспекторская комиссия именно на оставшийся месяц. Как же подвести директора, столько лет ко мне доброго, и ускользнуть? За неделю я мог дать "Современнику" текст, приготовленный к публичности; дважды в неделю мог выдавать по "облегчённому" отрывку из романа: мог читать по радио, давать интервью - а я возился в школьной лаборатории, готовил ничтожные физические демонстрации, составлял поурочные планы, проверял тетради. Я был червь на космической орбите...
Да и потом: а вдруг "люди сверху" увидят пьесу ещё до премьеры - и разгневаются? и не только пьесу прихлопнут, но и рассказы, которые вот-вот должны появиться в "Новом мире"? А тираж "Нового мира" - сто тысяч. А в зале "Современника" помещается только семьсот человек.
Да и опять же: ведь я обещал всякую первинку Твардовскому! Как же отдать пьесу в "Современник", пока её не посмотрит "Новый мир"? Итак, замедлив с боевым "Современником", я отдал пьесу в дремлющий журнал. Но там был кое-кто и не дремлющий, это Дементьев, и в самый журнал пьеса не попала: она не вышла из двух квартир дома на Котельнической набережной, от двух Саш. Между ними и было решено, а мне объявлено Твардовским: "искусства не получилось", "это не драматургия", это "перепахивание того же лагерного материала, что и в "Иване Денисовиче", ничего нового". (Ну, как самому защищать свою вещь? Допускаю, что не драматургия. Но уж и не перепахивание, потому что пахать как следует и не начинали! Здесь не Особлаг, а ИТЛ; смесь полов, статей, господство блатных и их психологии; производственное надувательство.)
Ну, после "Ивана Денисовича" выглядит слабовато. Легко, что Твардовскому эта пьеса и не понравилась. Да если бы дело кончилось тем, что "Новым мир" отклонял пьесу и предоставлял мне свободу с нею. Не тут-то было! Не так понимал Твардовский моё обещание и наше с ним сотрудничество ныне, и присно, и во веки веков. Ведь он меня в мои 43 года открыл, без него я как бы и не писатель вовсе, и цены своим вещам не знаю (одну принеся, а десяток держа за спиной). И теперь о каждой вещи будет суд Твардовского (и Дементьева): то ли эту вещь печатать в "Новом мире", то ли спрятать и никому не показывать. Третьего не дано.
Именно так и было присуждено об "Олене и шалашовке": не давать, не показывать. "Я предупреждаю вас против театральных гангстеров!" - очень серьёзно внушал мне А. Т. Так говорил редактор самого либерального в стране журнала о самом молодом и смелом театре в стране! Откуда эта уверенность суждения? Был ли он на многих спектаклях "Современника"? Ни одного не видел, порога их не переступал (чтобы не унизиться). Высокое положение вынуждало его получать информацию из вторых (и нечистых) рук. Где-нибудь в барвихском правительственном санатории, где-нибудь на кремлёвском банкете, да ещё от нескольких услужливых лиц в редакции услышал он, что театр этот дерзкий, подрывной, беспартийный - и значит "гангстеры"...
Всего две недели, как я был напечатан, ещё не кончился месяц мёда с Твардовским, - я не считал достойным и полезным взбунтоваться открыто, и так я попал в положение упрашивающего - о собственных вещах упрашивающего кому-то показать, а Твардовский упирался, не советовал, возражал, наконец уже и раздражался моей ослушностью. Едва-едва он дал согласие, чтобы я показал пьесу театру... только не "Современнику", а мёртвому театру Завадского (лишь потому, что тот поставил "Тёркина"). Позднее согласие! Положась на слабую осведомлённость А. Т. (вдали и выше обычной литературной публики, московской динамичной среды), я остался связан с "Современником". Однако, задержал пьесу на месяц - неповторимый месяц! - ждал, чтобы цензура подписала "Матрёну" и "Кречетовку". Тут я полностью отдал пьесу "Современнику" - да упущено было время: уже сказывалось давление на театры после декабрской кремлёвской "встречи". "Современник" не решился приступить даже к репетициям, и пьеса завязла на многие годы. Твардовский же с опозданием узнал о моём своевольстве - и обиделся занозчиво, и в последующие годы не раз меня попрекал: как же мог я обратиться в "Современник", если он просил меня не делать этого?..
А. Т. в письме назвал меня "самым дорогим в литературе человеком" для себя, и он от чистого сердца меня любил бескорыстно, но тиранически: как любит скульптор своё изделие, а то и как сюзерен своего лучшего вассала. Уж конечно не приходило ему в голову поинтересоваться - а у меня не будет ли какою мнения, совета, предложения - по журнальным или собственным его делам? Ему не приходило в голову, что мой внелитературный жизненный опыт может выдвинуть свежий угол зрения.