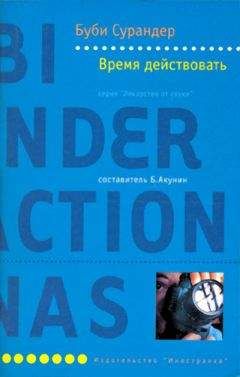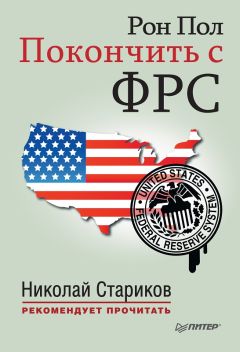Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба
– Вот это так называемый тмутараканский болван-с, изволите видеть, глыба, по виду ничем не замечательная, но обратите внимание, на ней надпись, гласящая, что князь Борис измерил по льду ширину Керченского пролива… Вероятно, во время одного из походов на юг России, где, как известно вам, находились некогда и греческие колонии. Эта область называлась в отдаленные времена царством Боспорским.
– Странно, – сказал Глеб, – Босфор же ведь очень далеко, почему назвали Босфорским?
Геннадий Андреич усмехнулся.
– Босфор и Константинополь ничего общего не имеют с царством Боспорским, монеты которого вот, ваш покорный слуга изучает более четверти века. Оно находилось в России, по берегу Черного моря. Киммерия входила-с в него тоже.
Глеб никогда не слыхал о таком царстве. Почувствовав, что вопрос его неудачен, покраснел.
Геннадий Андреич понимал, что со студента юриста, да еще столь юного, много не спросишь. И сказал примирительно:
– Это мало кто знает и обычно удивляются, обычно путают. Но вот Киммерия больше вам говорит? Вы бывали в Крыму?
– Да был раз. В Ялте.
– Ялта, Ялта… извините меня, город для дам-с. Шашлу есть да с проводниками по горам катать…
– Я был и в Феодосии…
– Вот это другое дело. Значит, знаете Киммерию.
Дошли до скифских чаш, кубков. Геннадий Андреич воодушевился, а у Глеба пестрело уже в глазах и голова тяжелела. «Ничего я не знаю, и наверно не узнаю никогда во всей этой путанице, а все-таки лестница замечательная». Она, может быть, и была для него путаницей, в действительности же вела извивами, темными своими путями в таинственную даль бытия.
«В нашей науке ничего не понимает, но довольно приличный, все-таки молодой человек», – определил одновременно Геннадий Андреич, не словами собственно, а неясным ощущением, которое потом можно словами означить – и всегда приблизительно.
Про Элли он даже и не подумал. Она женщина, что же ей знать… Хорошо еще, что относится уважительно.
Несмотря на то, что, как выяснилось на обратном пути через Киевскую залу, Глеб не помнил даже года, когда были убиты те князья Борис и Глеб, имя одного из которых он носил (помнил какого-то Святополка Окаянного, помнил, что жалостно они погибли от подосланных убийц – и только) – и вопреки всем этим прегрешениям Геннадий Андреич Глеба не отверг. Удивился, что его интересует Данте, был даже любезен, на прощанье поцеловал Элли.
– Давно что-то не была у нас, – сказал ласково. – Приходи как-нибудь к обеду. И Глеба Николаевича приводи.
Потом обратился к Глебу.
– Мой шурин Карл, человек очень увлекающийся и неплохой музыкант, весьма поклоняется Данте. И знает его. Он может быть вам полезен.
Глеб был польщен приемом. Искренно благодарил.
* * *Так произошла встреча нумизматики с начинавшейся литературой. Глеб действительно стал бывать в доме на Земляном валу, не весьма часто, но с постоянством, хотя не был еще ни мужем, ни даже объявленным женихом Элли (в какой-то момент Геннадий Андреич решил на все махнуть рукой: время другое, жизни не переделаешь.)
Он оказался прав. Все протекало довольно благополучно. Агнесса Ивановна приняла Глеба сразу как близкого, благодушно потряхивала кудряшками на лбу, улыбалась доброй улыбкой и, сияя небесно-эмалевыми глазами, закармливала пирогами и жареными индюшками. Он целовал ей ручку, она обнимала его и он тонул в теплых ее изобилиях. А за спиной тихо шипела Маркан: «Вот, появился еще молодчик! Добра не быть!». Но ничего недоброго не случилось. Так же, как и во времена дачи в Царицыне, всегда здесь кишели приятели, полуродственники и прихлебатели, и родные настоящие: то Анна приезжала с детьми, то Лина, в меру того, кто из них не был в ссоре с отцом. Юный «барон» подрос сильно, все еще, однако, был и молод, сухощав, элегантен. Играл в теннис, являлся с ракетками и без денег, читал теперь Агнессе Ивановне Диккенса, наедался за двоих и элегантным жестом «изымал» у двоюродной тетушки то «тройку», то «пятерку» – «заимообразно, в виду стесненных обстоятельств».
Дмитрий Дмитриевич присылал на именины цветы – неизменно, иногда зимой драгоценную клубнику, являлся и сам, высокий, худой, изящный. Когда в Большом театре танцевала его жена, знаменитая балерина Занетти, присылал ложу. Но Занетти никогда почти не бывала у Колесниковых – вела жизнь замкнутую и скромную, при божественном своем даре, сверхземной легкости полета на сцене, в жизни была робка и застенчива: занималась воспитанием дочери, принимала поклонение Дмитрия Дмитриевича и сама очень его любила. А он так был богат, что не проживал десятой доли доходов своей мануфактуры, хотя раздавал направо и налево, хотя рабочие его были устроены не в пример другим фабрикантам: исключительно.
Глеб впервые видел столь богатого и непонятно простого человека. («Да-с, совершенно верно-с…» Он ни с кем не спорил, на Геннадия Андреича смотрел с благоговением нескрываемым, и у него был такой вид, что вот сейчас он вынет чековую книжку, кому-нибудь поможет, за кого-нибудь похлопочет.)
– Дмитрий Дмитриевич странный человек, особенный-с, – говорил о нем Геннадий Андреич. – Редкостный. Если бы все богатые люди были такими, то возможно, что было бы похоже на рай. К сожалению, однако, это вовсе не так-с. До рая весьма, весьма далеко. И даже вовсе не похоже.
Дядя Карлуша временно перестал бывать на Земляном валу, обиделся за Баха, о котором непочтительно отозвался у Колесниковых один зоолог.
Но потом вновь стал появляться. Глеб познакомился и с ним. Узнав, что Глеб уже был в Италии и даже поклонник Данте, он ласково закивал ему пухлым женоподобным лицом с лазурными, как у сестры, глазами.
Но когда выяснилось, что Глеб собирается даже переводить Данте, на лице его изобразился почти ужас.
– А вы его хорошо знаете?
– Ну, не особенно, конечно.
Начался экзамен. Оказалось, что «Рая» вовсе не читал, «Чистилище» приблизительно, с литературою о Данте почти не знаком. Подумать только, о любимом Озанаме даже не слыхал. Ни Витте, ни Скартаццини…
– И вы собираетесь переводить Данте…
Вид у него был такой, что он разговаривает с безумцем. Но, наверно, смущение Глеба подействовало. Он налил себе и ему белого вина и сказал более мирно:
– Если вы обещаете, что будете обращаться с книгами аккуратно, я дам вам – для начала – Крауса, это очень полезно. А там посмотрим. Имейте в виду, что переводу «Божественной комедии» люди отдавали целую жизнь.
Глеб так сам еще был полон жизни, так хотел брать, а не давать, что это мало ему подходило. Тем не менее дядю Карла искренне поблагодарил.
– Вот видите-с, – обратился к Глебу, с вежливо-покровительственной улыбкой Геннадий Андреич. – Я всегда полагал, что Карл вам подходит и будет даже полезен.
Сам он считал, что и Карл, и Глеб каждый в своем роде со странностями. Один носится с Данте, другой примыкает к «новой-с» литературе, «делает вид», что понимает «самоновейшего психопата с нелепым прозвищем Андрей Белый».
Эта «новая литература», к которой Глеб отчасти и себя причислял, могла бы послужить поводом к раздору для него на Земляном валу, но не послужила. Глеб охотно пил с Геннадием Андреичем Вгапе Cantenac, охотно слушал рассказы о Рейнаке и поддельной тиаре Сайтаферна, изготовленной в Одессе, почтительно рассматривал медали, в которых ничего не смыслил, но Геннадий Андреич тоже понимал, что этот будто бы скромный и вежливый студент с весьма малыми познаниями очень самолюбив и упрям, в некоторых вещах совсем не уступит и задевать его не надо. Глеб тоже не приставал к нему с Блоком и Белым, а когда Геннадий Андреич восторгался «Русланом и Людмилой» на сцене («каждый раз хожу-с»), Глеба это не раздражало.
Вооруженный мир продолжался. И весьма тем поддерживался, что Глеб занят был писанием своим и любовью, а Геннадий Андреич монетами царя Митридата.
Развод Элли кончился, подошло время брака. Венчание так и устроилось, как предвидел Геннадий Андреич: без всяких оповещений.
На Земляном валу да и в Прошине о нем узнали, когда оно уже совершилось. За сокрытие Геннадий Андреич довольно долго дулся. Виновные не бывали временно в доме у Ильи-Пророка, но потом произошло объяснение. Глеб волновался и убеждал, что «никак не хотел обидеть, но думал, что просто это неинтересно». «Неинтересно!» Геннадий Андреич был поражен. Такого взгляда на дело он еще не встречал. «Ну, да у них, у молодых, все по-особенному». И это его успокоило.
Понемногу все и прошло и забылось, снова стали бывать. Земляной вал все прочнее входил в жизнь Глеба. Занимал меньше места, чем Прошино, все-таки занимал.
А теперь, вытянувшись, на мягком ложе вагона, неторопливо катившего его к Себежу, Глеб, усталый, замученный последними днями в Москве, все-таки навсегда увозил с собой все облики прошлого, не говоря уже о матери и отцовской могиле, Собачке, но и Геннадия Андреича и дядю Карлушу, Агнессу Ивановну и приживалок, и множество тех мелочей, которые казались иногда и неважными, но из них складывался весь план бытия его.