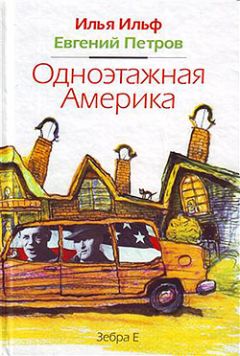Михаил Кузмин - Подземные ручьи (сборник)
Андрей всегда сопровождал господина в церковь, ко всем службам, молился чинно и усердно, не смотря ни направо, ни налево и не подымая глаз к занавешенным с боков хорам, где находились прихожанки. Зато сверху на господина и на слугу был обращен не один женский взор, и впечатления, удивления, догадки шепотом передавались вплоть до противоположной стены, словно в какой-нибудь игре.
Однажды, когда Виктор с Венгром возвращались от обедни, им преградила дорогу большая толпа, окружавшая невысокого человека в широком балахоне и колпаке, который смеялся, скакал и плевался, хлопая себя по бедрам и произнося на мотив уличной песни бессвязные слова. Увидя приближающихся юношей, он на минуту приостановил свои прыжки и будто ждал, опершись на высокий посох, потом еще быстрее закружился. Снова остановился, повел носом, сморщился. Все ждали, что он скажет.
— Фу, фу! как чертями воняет!
Все стали озираться, думая, не к ним ли относится это восклицание, а юродивый продолжал:
— Вы думаете, мускусом пахнет? Адской серой! Вот вижу, пляшет бесенок, дует в дудку, скаредный, рожи корчит, улыбается, подставляется.
Божий человек вдруг закрыл лицо руками и по-бабьи застонал: «Ох! ох, ох! горе мне, глаза бы мои не смотрели».
Мизра, Мизра, Мизраил,
Ты зачем ходил на Нил?
Из верхнего окна смотрела улыбающаяся женская голова, сильно накрашенная, в рыжей высокой прическе. Юродивый отвел руки от своих щек и закричал на всю улицу:
— А, ты смеешься, сквернавица! Поборюсь, но не уступлю!
И моментально он вскочил, задрав свой балахон и оголившись, встал в непристойную позу. Зеленые ставни в окне хлопнули, из-за них послышался неудержимый хохот, а старичок, оправившись, вдруг заговорил совершенно спокойным и учительным тоном:
— Не думайте, братья, что эта Иродиада, эта Езавель хуже всех вас. Притом вы были свидетелями, как просто можно ее побороть. Правду говорю, что вот эти двое (и он указал палкою на Виктора с Андреем) сто раз хуже ее. Бесов на них, что блох на псах.
Все обернулись на юношей, а Виктор, покраснев, подошел к юродивому и скромно спросил:
— Открой, отче, какими бесами томимы? Тот щелкнул языком и ответил:
— Так я тебе и скажу, держи карман шире! Сам ищи! И затем снова залопотал что-то непонятное.
Виктор никогда не говорил с Андреем об этом случае, но слова юродивого часто приходили ему в голову, особенно во время бессонниц, которыми он страдал. Между тем Венгр стал недомогать, и с уменьшением здоровья все увеличивалась его набожность. Почти не вставая со своей узкой кровати под лестницей, он все время шептал молитвы, смотря на темную икону в углу. Виктор все время проводил в тесной комнате слуги, держа в своей руке сухую и горячую руку друга и слушая его беспорядочные речи, иногда переходящие в настоящий бред. Однажды он так сидел, больной забылся сном, и Виктор, глядя на смуглый вспотелый лоб и темные веки, закрывшие выпуклые, несмотря на впалость, глаза, вдруг почему-то особенно отчетливо вспомнил тот день, когда остановил их юродивый. Что он хотел сказать и к кому из двоих относились его слова? Андрей будто от хозяйского взора открыл глаза и, почувствовав свою руку в руке того, тихо начал:
— Пришел мой час. Моя душа вдвойне томится. И с телом она расстается и тебя покидает: ты не господином был мне, а братом и другом, милый Виктор.
Больной еще что-то хотел сказать, но, видимо, ему было трудно. Он только сделал знак Виктору наклониться, обвил его шею руками и прижал свои губы к губам господина. Вдруг уста его похолодели, а руки тяжелее налегли на шею. Виктор осторожно разнял пальцы Андрея, и Венгр упал на подушки мертвым.
Только после смерти слуги Виктор понял, насколько тот был ему дорог. Казалось, легче было бы, если бы ему отрубили правую руку или посадили навеки в тюрьму. Только теперь он узнал, как нежно любил умершего, без которого ему даже милые книги стали казаться пресными и лишенными интереса. Одни церковные службы привлекали его еще больше прежнего; да и сами обстоятельства понуждали его усилить благочестие, так как он, кроме обычных поминальных служб, и один каждую ночь молился об упокоении своего друга, все думая, что значили те давнишние слова юродивого и что хотел сказать ему перед смертью Андрей. Он не мог забыть похолодевших внезапно губ и того, единственного в его жизни, поцелуя, кроме безразличных приветов при встрече и прощаньи. Это тоже было прощание, но навсегда, на вековечную разлуку.
Однажды долго молился Виктор перед комнатной своей божницей, так что от волнения, слез и дум не мог заснуть даже, когда лег в постель. Отвернувшись к стене, где тигры на ковре красновато освещались лампадами, он упорно шептал: — Господи, Господи! Умири душу мою, утоли печаль мою; если нельзя вернуть брата моего Андрея, то открой мне, что с его душой делается, где она скитается, где покоится, чтобы знать мне, лить ли еще слезы, или радоваться.
Виктор все это говорил, смотря на тигров, и захотел взглянуть на Спаса, Божию Матерь и мученика Виктора, что в ряд стояли на средней полке. Он быстро повернулся на кровати и увидел…
У дверной притолки стоял брат Андрей, весь голый, с одной повязкой у бедер. Виктор сначала его не узнал в таком виде, так как никогда не видал своего раба обнаженным. Потом признал, радостно крикнул: «Андрей!», простер даже руки, но тотчас стал закрещивать гостя, бормоча: «Да воскреснет Бог». Тот не исчезал, тихо улыбнулся и показал крестик, висевший у него на шее.
— Не бойся, брат Виктор, и не ужасайся! Я не призрак и не бес, а брат твой любимый. Ты звал меня, хотел узнать о скорбном пути загробном, вот я пришел к тебе. Я не призрак, ты можешь взять меня за руку, если хочешь.
Он протянул руку. Тень от нее по стене протянулась огромной и задела Викторовы ноги. Он подобрал их под одеяло, натянул последнее до горла и сказал:
— Я верю и благодарю тебя. Сказывай, брат, о смутном пути загробном.
Опять улыбнулся гость и начал свой рассказ, причем Виктору казалось, что Андрей не раскрывал уст, и слова его не раздаются в комнате, а будто прямо кем-то кладутся в уши ему, Виктору.
— Горек последний час! Когда смерть безносая явится с копьями, пилами, вилами, саблями, мечами и губительной косою, — не знаешь, куда деваться, мечешься, стонешь, взываешь, но она без ушей и без глаз — неумолимая. Разбирает тебе все суставы, порывает все жилы и сухожилья, сердце насквозь пронзает. Ангел смертный ждет, пасмурен, пока безносая копается. По сторонам стоят демоны и ангелы с толстыми книгами, ждут. Горче укуса с горчицей последний час. Последний вздох горче всего, и с последним вздохом выскочит душа из тела, и ангел смертный примет ее. Как прижмется, как уцепится, как плачет бедная, маленькая, голая душенька! Ангел смертный повернет ей голову и скажет: «Смотри на свое тело, на свой состав, на товарища своего. Снова пойдешь в него при последнем воскресении». А тело лежит бело, недвижно, безгласно, словно колода. Плачут над ним друзья и родные, но к милой не вернуть его жизни! Душа закроет лицо руками, закричит: «Не хочу входить в него!», а ангел смертный ответит: «Войдешь, когда будет надо!» и понесет ее дальше. Красные юноши и темные демоны идут за ними. Тут взойдут на длинный мост, недели две времени пройти его. На том берегу видна еле-еле зелень лугов, полей, рощ и белые мелкие цветочки. Они двигаются и взлетают порою стаей, как пух одуванчиков. Это были ангелы и праведные души в пресветлом раю. Мост проходит над густым красноватым туманом. Если посмотреть пристальней, можно различить вроде огненных шахт со множеством отделений и подразделений. Только грубый земной ум не видит разницы, скажем, между ложью и оболганием, клеветой и клеветанием, немилостью и немилосердием, гордостью и гордынею. Тонкие же небесны умы знают все отличия и разности и отчетливо все различают. Там, будь уверен, не ошибутся и не определят тебя туда, куда не следует. На мосту — мытарства. Это вроде наших застав или мытных дворов, где собирают подати. Ангелы сидят за высокими столами, вернейшие весы и мерила у них в руках, а в книжке записано все: малейшая мысль, желания, которые забыты самим тобою, стоят там, как живые под номером. Страшится душа, трепещет и вспоминает все свои грехи, ничего хорошего не помнит; но у ангелов все записано, ни одной крошки не пропадает. Развернут демоны свои свитки, откроют ангелы свои книги, взвесят, измерят и дальше пропустят или с моста свергнут, и заплачут юноши, а демоны скалятся, шумят и ликуют, как чернь на скачках. Так прошел я мытарства оболгания, оклеветания, зависти, лжи, ярости, гнева, гордыни, буесловия, срамословия, лености, лени, тщеславия и дошел до двадцатого мытарства.
Андрей остановился, умолк.
— Ну, а какое же двадцатое мытарство? — спросил Виктор, как бы не замечая, что гость уже не стоит у притолоки, а сидит у него на кровати, наклоняя к нему выпуклые глаза, весь розоватый от святых лампад.