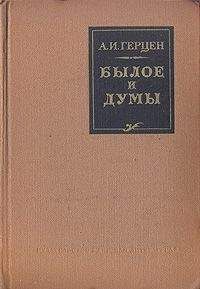Александр Герцен - Былое и думы
По-видимому, Диффенбах был тогда занят чем-то другим и нос ему вырезал прескверный. Но вскоре я открыл, что собственноручный нос был наименьшим из его недостатков.
Переезд наш из Кенигсберга в Берлин был труднее всего путешествия. У нас взялось откуда-то поверье, что прусские почты хорошо устроены, – это все вздор. Почтовая езда хороша только во Франции, в Швейцарии да в Англии. В Англии почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади так изящны и кучера так ловки, что можно ездить из удовольствия. Самые длинные станции карета несется во весь опор; горы, съезды – все равно.
Теперь благодаря железным дорогам вопрос этот становится историческим, но тогда мы испытали немецкие почты с их клячами, хуже которых ничего нет на свете, разве одни немецкие почтальоны.
Дорога от Кенигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мест в дилижансе и отправились. На первой станции кондуктор объявил, чтобы мы брали наши пожитки и садились в другой дилижанс, благоразумно предупреждая, что за целость вещей он не отвечает.
Я ему заметил, что в Кенигсберге я спрашивал и мне сказали, что места останутся, кондуктор ссылался на снег и на необходимость взять дилижанс на полозьях; против этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться с детьми и с пожитками ночью, в мокром снегу. На следующей станции та же история, и кондуктор уже не давал себе труда объяснять перемену экипажа. Так мы проехали с полдороги, тут он объявил нам очень просто, что «нам дадут только пять мест».
– Как пять? вот мой билет.
– Мест больше нет.
Я стал спорить; в почтовом доме отворилось с треском окно, и седая голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую семь мест, а у него их только пять; я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за семь мест. Голова, не обращаясь ко мне, дерзким раздавленным русско-немецко-военным голосом сказала кондуктору:
– Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест.
После этого почтенный почтмейстер, которого кондуктор называл «Herr Major» и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решились ехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почтмейстера.
Мой сосед, исправленный Диффенбахом, в это время был в трактире; когда он вскарабкался на свое место и мы поехали, я рассказал ему историю. Он был выпивши и, следственно, в благодушном расположении; он принял глубочайшее участие и просил меня дать ему в Берлине записку.
Вы почтовый чиновник? – спросил я.
Нет, – отвечал он, еще больше в нос, – но это все равно… я… видите… как это здесь называется – служу в центральной полиции.
Это открытие было для меня еще неприятнее собственноручного носа.
Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато он не был последний.
…Берлин, Кельн, Бельгия – все это быстро прореяло перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать и доехали наконец.
…Я отворил старинное, тяжелое окно в HoteL du Rhin; передо мной стояла колонна —
… с куклою чугунной
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и Rue de La Paix.
В Париже – едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на HoteL de ViLLe, на café Foy в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком «а La BastiLLe!»
Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря… искать Бакунина, Сазонова – вот Rue St.-Honore, Елисейские поля – все эти имена, сроднившиеся с давних лет… да вот и сам Бакунин…
Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее перервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.
Я был вне себя от радости!
На ней я здесь и остановлюсь.
Париж еще раз описывать не стану. Начальное знакомство с европейской жизнью, торжественная прогулка по Италии, вспрянувшей от сна, революция у подножия Везувия, революция перед церковью св. Петра и, наконец, громовая весть о 24 феврале, – все это рассказано в моих «Письмах из Франции и Италии». Мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих «Записок», – что же вообще письма, как не записки о коротком времени?
ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ
Тетрадь вторая
I. Il Pianto[326]
После Июньских дней я видел, что революция побеждена, но верил еще в побежденных, в падших, верил в чудотворную силу мощей, в их нравственную могучесть. В Женеве я стал понимать яснее и яснее, что революция не только побеждена, но что она должна была быть побежденной.
У меня кружилась голова от моих открытий, пропасть открывалась перед глазами, и я чувствовал, как почва исчезала под ногами.
Не реакция победила революцию. Реакция везде оказалась тупой, трусливой, выжившей из ума, она везде позорно отступила за угол перед напором народной волны и воровски выжидала времени в Париже и в Неаполе, в Вене и Берлине. Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей и, что всего хуже, без их сознания; героизма, юношеского самоотвержения было больше, чем разумения, и чистые, благородные жертвы пали, не зная за что. Судьба остальных вряд не была еще печальнее. Они, в раздоре между собой, в личных спорах, в печальном самообольщении, разъедаемые необузданным самолюбием, останавливались на своих неожиданных днях торжества и не хотели ни снять увядших венков, ни венчального наряда, несмотря на то что невеста обманула.
Несчастия, праздность и нужда внесли нетерпимость, упрямство, раздражение… эмиграции разбивались на маленькие кучки, средоточием которых делались имена, ненависти, а не начала. Взгляд, постоянно обращенный назад, и исключительное, замкнутое общество – начало выражаться в речах и мыслях, в приемах и одежде; новый цех – цех выходцев – складывался и костенел рядом с другими. И как некогда Василий Великий писал Григорию Назианзину, что он «утопает в посте и наслаждается лишениями», так теперь явились добровольные мученики, страдавшие по званию, несчастные по ремеслу, и в их числе добросовестнейшие люди; да и Василий Великий откровенно писал своему другу об оргиях плотоумерщвления и о неге гонения. При всем этом сознание не двигалось ни на шаг, мысль дремала… Если б эти люди были призваны звуком новой трубы и нового набата, они, как девять спящих дев, продолжали бы тот день, в который заснули.
Сердце изнывало от этих тяжелых истин; трудную страницу воспитания приходилось переживать.
…Печально сидел я раз в мрачном, неприятном Цюрихе, в столовой у моей матери; это было в конце декабря 1849. Я ехал на другой день в Париж; день был холодный, снежный, два-три полена, нехотя, дымясь и треща, горели в камине, все были заняты укладкой, я сидел один-одинехонек: женевская жизнь носилась перед глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что, если б я мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но я не мог и, вместо молитвы, написал проклятие — мой «Эпилог к 1849».
«Разочарование, усталь, Blasiertheit!»[327] – сказали об этих выболевших строках демократические рецензенты. Да, разочарование! Да, усталь!.. Разочарование – слово битое, пошлое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия, имеющего притязание на все, силы – ни на что. Давно надоели нам все эти высшие, неузнанные натуры, исхудалые от зависти и несчастные от высокомерия, – в жизни и в романах. Все это совершенно так, а вряд ли нет чего-либо истинного, особенно принадлежащего нашему времени, на дне этих страшных психических болей, вырождающихся в смешные пародии и в пошлый маскарад.
Поэт, нашедший слово и голос для этой боли, был слишком горд, чтобы притворяться, чтоб страдать для рукоплесканий; напротив, он часто горькую мысль свою высказывал с таким юмором, что добрые люди помирали со смеха. Разочарование Байрона больше, нежели каприз, больше, нежели личное настроение. Байрон сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требования его были ложны, а потому, что Англия и Байрон были двух розных возрастов, двух розных воспитаний и встретились именно в ту эпоху, в которую туман рассеялся.
Разрыв этот существовал и прежде, но в наш век он пришел к сознанию, в наш век больше и больше обличается невозможность посредства каких-нибудь верований. За римским разрывом шло христианство, за христианством – вера в цивилизацию, в человечество. Либерализм составляет последнюю религию, но его церковь не другого мира, а этого, его теодицея – политическое учение; он стоит на земле и не имеет мистических примирений, ему надобно мириться в самом деле. Торжествующий и потом побитый либерализм раскрыл разрыв во всей наготе; болезненное сознание этого выражается иронией современного человека, его скептицизмом, которым он метет осколки разбитых кумиров.