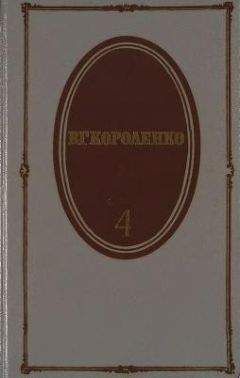Владимир Короленко - Том 5. История моего современника. Книги 3 и 4
Остальное более или менее известно. Теперь я живу в Нижнем Новгороде, женат, имею трех дочерей. Издал книгу «Очерков и рассказов» в 1887 году (теперь идет пятое издание, в общей сложности это составит около 13 тысяч экз.), «Слепого музыканта» (идет третье издание) и в настоящее время издаю «Вторую книгу очерков и рассказов». Первая книга появилась в переводах: на немецком, французском, английском (Boston: Little Brown and Company) и чешском. «Слепой музыкант», как известно, издан в Лондоне (London: Ward and Downey, 1890) и в Бостоне (Little Brown and Company, 1890). Из отдельных переводов упомяну об армянском {«Сказание о Флоре и Агриппе») и затем прошу прощения, что за недостатком времени вынужден ограничиться этими несистематическими и неполными набросками. Кажется, что необходимейшие внешние биографические черты здесь даны все. Если же представится надобность в каких-нибудь дополнениях или более точных библиографических сведениях, рад служить впоследствии.
Затем прошу принять уверение в полном моем уважении.
Влад. Короленко
Автобиографическое письмо*
Милостивый государь. Только на днях я вернулся в Нижний из поездки в Москву и Петербург, где провел частию на месте, частию в разъездах довольно много времени. Здесь застаю уже второе Ваше письмо, из которого вижу, что Вы не получили еще моего ответа на первое. Это очень жаль, но это, к сожалению, в порядке вещей. В Америке мне говорили, что там не гарантируют и не отвечают за потерю рекомендованных писем, направляемых в Россию. И это совсем не потому, чтобы наша почта была хуже других, а потому, что наши письма слишком часто натыкаются на мели и подводные камни, лежащие совсем вне почтовых порядков и почтового фарватера. В Нижнем, как Вам известно, предполагается выставка в 1896 году, с приездом высокопоставленных особ. Этого достаточно для того, чтобы письма, идущие в Нижний или из Нижнего, подвергались всяким превратностям. Они приходят к нам то с непонятными запозданиями и следами вскрытия, то, еще хуже, совсем не приходят. И это не потому, что в них заключается что-нибудь преступное, а просто потому, что господа, на которых лежит деликатная миссия контролировать эту реку корреспонденции, завалены непосильной работой и порой, очевидно, не успевают заклеить то, что расклеено, и заделать опять то, что разделано. Что-нибудь подобное случилось, вероятно, и с моим ответом, может случиться и с настоящим письмом, которое, однако, я пошлю заказным. Будьте добры, известите о получении и извинитесь перед г. Дэкав. Мы здесь все-таки не такие невежи, чтобы совсем не отвечать на те или другие деловые предложения, каково и Ваше письмо.
Приходится сразу отвечать на оба письма. Что касается биографических сведений, то посылаю их теперь, но, кроме этого, не могу сделать ничего больше. Наша пословица говорит: что город, то норов, что страна, то обычай. У нас совсем еще не в обычае те формы литературной) рекламы, которые в других странах составляют обычное явление. Я не могу, конечно, сделать для перевода то, чего никогда не сделаю для оригинала, и потому вынужден отказаться от Вашего предложения написать для французской) печати что-либо, имеющее целью — напомнить или заявить о себе и знакомить со своим именем. Охотно буду присылать Вам свои работы: если они могут интересовать — хорошо. Нет — что же делать. Должен прибавить, что я пишу немного, и притом не в одной лишь художественной области. С этим письмом вместе — посылаю свою книгу «В голодный год». Это, как увидите, работа наполовину публицистическая. Разумеется, она и не претендует на общий интерес, и читать ее всю Вам незачем. Просмотрите, если заинтересуетесь, только главы, подчеркнутые карандашом в общем оглавлении в конце книги.
Теперь биографические черты, которые вам нужны.
Родился я в 1853 году, в Житомире, губ<ернском> городе Волынской губернии. Вы, вероятно, знаете этот край. Сельское население в нем — малороссы; помещики и вообще среднее сословие по б<ольшей> части поляки, с примесью русского чиновничества; наконец, в городах много евреев. Семья моих родителей была смешанная. Мать — полька, дочь арендатора (посессора). Отец — малоросс по происхождению, дворянин Полтавской губернии. Дед мой по отцу был уже чиновник, начальник таможни в Радзивиллове, но прадед, сколько мне известно, был каким-то казацким старшиной, выходцем (по словам отца) из Запорожья. В семье моего деда-чиновника говорили не иначе как по-малорусски. Мы с детства знали три языка: польский, русский и малорусский.
Я хорошо помню время польского восстания. Отец мой был уездным судьей и участвовал в следственных комиссиях. Это был человек неподкупной честности и очень гуманный. В то тревожное время он как-то сумел сохранить уважение русского начальства и любовь поляков. В 1863 или 1864 году в гор. Дубно уездный судья был убит фанатиком-поляком среди белого дня, на улице, и моего отца назначили на его место, как человека, который мог одновременно заставить уважать закон и привлечь к себе уважение и любовь населения. Оттуда отец переведен вскоре в соседний городок Ровно, куда за ним последовала семья и где я окончил курс гимназии.
Этот небольшой городок описан совершенно точно в рассказе «В дурном обществе». По отношению к интересующему Вас произведению могу прибавить, что здесь еще мальчиком я познакомился впервые со слепой девушкой. Это была взрослая уже племянница нашей домовладелицы, слепорожденная. У нее было необыкновенно развитое осязание. Она очень любила щупать материи, покупаемые ее знакомыми и подругами, часто оценивала их с точки зрения красоты и раздражалась до слез, когда ей говорили, что она об этом не имеет понятия. Эпизод с падучей звездой вечером, изображенный на стр. 105 Вашего перевода, приведен целиком из детских воспоминаний об этой бедной девушке. Кроме нее, я наблюдал еще мальчика, постепенно терявшего зрение, затем — молодого человека, ослепшего в первые дни после рождения. Он был отчасти музыкант. Наконец, слепой звонарь, в Саровской пустыни, слепорожденный, рассказами о своих ощущениях подтвердил ту сторону моих наблюдений, которая касается беспредметной и жгучей тоски, истекающей из давления неосуществленной и смутной потребности света. Он рассказывал мне, как он молится, чтобы бог дал ему «увидеть свет-радость хоть в сонном видении». Это было на верхушке высокой колокольни, куда он привел меня по узкой и темной лестнице. Снизу доносился шум монастырского двора, полного богомольцев, вверху нас обдавал ветер, приносивший свежесть и аромат окружающего бора, и бедный слепец, разнеженный и растроганный, выкладывал передо мной свою наболевшую и подавленную душу. Мне говорили часто и говорят еще теперь, что человек может тосковать лишь о том, что он испытал. Слепорожденный не знал света и не может" томиться по нем. Я вывожу это чувство из давления внутренней потребности, случайно не находящей приложения. Концевой аппарат испорчен, но весь внутренний аппарат, реагировавший на свет» у бесчисленных предков, остался и требует своей доли света… Саровский звонарь своими бесхитростными рассказами убедил меня окончательно в верности этого взгляда.
Однако я отвлекся от биографии. В 1868 г. умер отец и на руках у матери нас осталось пятеро. С необыкновенной энергией она старалась дать нам образование. В 1871 году я окончил курс гимназии и приехал в Петербург с 17 рублями в кармане. 2 1/2 года прошло для меня в бесплодных попытках учиться, и это — одна из самых тяжелых полос моей жизни. Я занимался рисованием, чертежами и корректурой. Наконец в 1873 г. я оставил Петербург и опять наудачу отправился в Петровскую академию под Москвой. Здесь я выдержал экзамен сначала на второй, потом на третий курс и получил стипендию. В апреле 1876 года в Академии произошли беспорядки, вызванные частыми арестами студентов и тем участием, которое принимало в этом академическое начальство. В числе трех депутатов, подавших начальству коллективное заявление студентов, был и я, и поэтому подвергся ссылке. Сначала меня послали в Вологодскую губ<ернию>, потом с дороги вернули, и я провел год под надзором полиции в Кронштадте. Через год я поселился в Петербурге, с семьей, работая в качестве корректора в газетах.
В 1879 году я опять был арестован, вместе с братьями и мужем моей сестры. Точные основания и причины этого ареста мне до сих пор не известны. Несомненно, однако, что даже в глазах тех, кто этим распоряжался, теперь это является результатом т<ак> назыв<аемого> «печального недоразумения». Мне не предъявляли никаких обвинений, не требовали никаких объяснений, не объявили моей вины, а просто продержали в тюрьме с февраля до мая, а в конце мая выслали в дальний город (Глазов), дальней Вятской губернии, под надзор полиции. Здесь я опять не сделал ни одного шага, который можно было бы назвать незаконным. Но я сделал кое-что худшее: жаловался на исправника и губернатора, и, что всего хуже, мои жалобы были уважены. Тогда случилось нечто до сих пор для меня загадочное: сначала меня выслали (властию губернатора) в самый северный край Глазовского уезда, на верховья Камы, где я прожил несколько месяцев в одинокой избе, окруженной дремучим лесом, вместе с крестьянской семьей. Не скажу, чтобы здесь мне было очень плохо. Наоборот, люди были хорошие и глушь очень интересная. Беда была, однако, в том, что, пока я сидел в этой избе, слушал шум леса и изучал первобытные типы лесных обитателей, вятская администрация написала в Петербург, что я бежал с места ссылки. Вследствие этого меня опять взяли в моей избушке, среди прощаний и слез простодушных моих хозяев, привезли в Вышний Волочек, выдержали 6 месяцев в тюрьме и — послали, как беглеца, в Сибирь. О причине ссылки и о мнимом побеге я узнал только случайно, уже в пути.