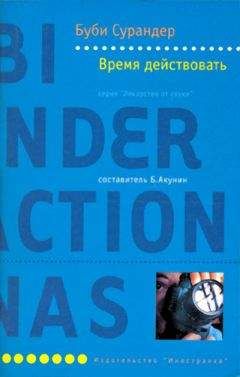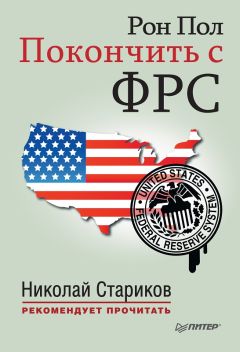Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба
– Глеб, Глеб, ты за тетечку не беспокойся, я ее в обиду не дам, а если что – сейчас же к себе возьму… Я и навестить ее съезжу, и она к нам приедет… Ну, с Богом! Элличка, дорогая, обнимаю тебя, пишите! Таня, Христос с тобой! Расти.
Сестра Анна – высокая, с огромными глазами луиниевской мадонны, мать многочисленной семьи, сдержанная и строгая, крепко обняла Элли. Глаза ее были влажны, но собою она владела.
– Ну вот, ну вот… Елена, в добрый путь.
Добрый путь начался в назначенную минуту. Вагон дрогнул, и платформа с остающимися в солнечном июньском дне поплыла назад, не уходя из Москвы. А Глеб, Элли и Таня, из окна махавшие идущим по платформе и тоже махавшие, медленно, но все же убыстряя ход, отдалялись от Москвы. Москва шла еще за ними будками, семафорами, водокачками, потом пригородами, но когда они кончились, лишь голубой ветер полей российских стал веять над уходящим.
Земляной Вал
Некогда Геннадий Андреич учился в Коммерческом училище, носил фуражку с темно-зеленым околышем. Его отец, Андрей Тихоныч, был уверен, что хотя Геннадий слишком пристрастился к книгам, все же отлично поведет кожевенное дело, тут же на Земляном валу основанное дедом, выходцем из земли Владимирской, Егором Колесниковым.
Но не так вышло Андрей Тихоныч рано скончался, много раньше, чем думал Геннадий Андреич рано женился, рано стат обладателем всех средств, доходов дела – мог свободно теперь изучать любимое: историю, археологию. Это сидело в нем крепко.
Вскоре женился на Агнессе Шмидт, юной барышне из московско-немецкого коммерческого мира. Мать Агнессы была итальянка, жена известного русского художника времен Гоголя. Он изобразил ее некогда в виде вакханки, в венке из виноградных листьев. В Агнессе ничего не было вакхического, но глаза ее сияли бледной синевой редкостной чистоты, нечто эмалевое было в их ласковом, приветливом блеске: являлся он и отражением ее далекой родины. Весь ее характер, доброта, некоторая восторженность и сентиментальность, ранняя полнота, плодовитость – все отвечало московско-германо-итальянскому корню.
Кожевенное дело на Земляном валу понемногу заглохло. Появился Исторический музей, где Геннадий Андреич получил место по сердцу.
Элли девочкой помнила еще кожевенные склады на дворе, но при ней приказчиков, живших тут же, в полуподвальном этаже, не гоняли уже ко всенощной в церковь Ильи Пророка, через улицу, и не запирали на ночь («чтобы не ходили в город баловать»). А другие остатки прежнего сохранились: старая прислуга, приживалки, повар Иван Лукич, как всегда повара тех времен – пьяница.
Жива была еще и бабушка Ульяна Семеновна, занимала флигель во дворе. Некогда была она красива и дородна. Так дородна и так неподвижна, что знаменитый московский врач, талант и самодур, невозбранно грубивший купцам и бравший огромные деньги, сказал ей однажды: «Если будете так есть и неподвижно жить, кончите кондрашкой».
Полакомившись сам особыми конфетами, которые ему выставляли, он уехал, Андрей же Тихоныч и она сама не обратили на слова его никакого внимания. Как же так меньше есть? Иван Лукич обидится: у Потаповых повар берет цельный ростбиф, у Евстигнеевых тоже, чем же Колесниковы хуже? И неужели Ульяне Семеновне ходить к Илье-Пророку пешком, как простой мещанке, когда есть пара вороных, летом пролетка, зимой сани с синей сеткой, и – хотя церковь всего в ста шагах – все же приличней Колесниковой подъезжать на своих лошадях.
Этих лошадей, сани с синей сеткой тоже отлично помнила Элли. Когда кучер возвращался, отвезши бабушку, то сестер-девочек Анну, Лину и Элли возил он катать по Воронцову полю около дома Вогау: вот, мол, у Колесниковых тоже хоть куда лошади.
Все же знаменитый доктор не ошибся. Ульяну Семеновну рано разбил паралич, и она несколько лет прожила в своем флигеле во дворе – еще не старая, прежде почти красавица, ныне жалкая туша, которую дворники подымали и переворачивали, перекладывали на простынях.
Но ее несчастная жизнь шла как бы на окраине колесниковского бытия и с ее уходом исчез последний след давнего.
Анна училась в гимназии, Элли в пансионе Виноградской и вместе с сестрой Линой играла в детском оркестре Эрарского – Элли на цитре, Лина на рояле.
У Агнессы Ивановны был абонемент в симфоническом: музыку она очень любила. По вечерам – духовитая, в нарядном платье с турнюром, сияя эмалевыми глазами и бриллиантовой брошкою со стрелой, крестя и целуя детей на ночь, уезжала она слушать Рубинштейна (а Элли, по нервности своей, часто не могла заснуть без нее, томилась и плакала. Ей казалось, что мать погибла и никогда не вернется, мерещились ужасы вплоть до минуты, когда та же пара вороных в санях высаживала у подъезда Агнессу Ивановну. Через несколько минут по комнате проплывало чудесное для Элли шуршание шелка и ручей духов. Мать снова ее целовала и тогда блаженно засыпала она). Но случалось, когда мать бывала и дома, и в зале с картиною Каналетто играла Шопена, Элли у себя в постели плакала. О чем? Не могла бы сказать.
Позже, когда подросли, сами ездили с матерью в сияющий зал Дворянского Собрания, в Охотном ряду близ церкви Параскевы-Пятницы. Там видела Элли впервые на эстраде худенького седого человека во фраке, неважно дирижировавшего собственную симфонию, но что бы он и как бы ни дирижировал, овации ему были обеспечены. Звали его Петр Ильич Чайковский.
Все это было то прошлое, что удалялось теперь с Элли, Глебом и Танею на дальний запад, но никогда не умирало, так и жило в душе, как в Глебе отец, Усты, Прошино, мать за самоваром, разливающая чай.
– Браво! Браво Чайковский!
Это хлопает и вызывает дядя Карлуша, мамин брат, музыкант и поклонник Данте. Он розов, несколько пухл и мягок, с такими же синими, как у сестры, глазами, ходит как бы приседая, энтузиаст и фантазер. Данте читает ежедневно, по нескольку строк, как Евангелие. Кроме него, никого и не признает в литературе. Собрал целую о нем библиотеку. Совершил поездку по его следам в Италии и считал некоторых поклонников Данте и его исследователей, даже умерших, личными своими друзьями.
– Ах! Озанам! Озанам! Вы читали Озанама? И блаженно закатывал небесные свои глаза.
Геннадий Андреич знал Данте мало, но понаслышке уважал. А к Карлу Ивановичу относился и покровительственно и слегка насмешливо.
– Чудак-с! Настоящий дилетант и чу-у-да-к-с!
(Считал, впрочем, дилетантом каждого, кто не знал монет царя Митридата или не понимал ничего в аптекарской посуде Петра Великого.)
Геннадий Андреич времен детства Элли был крепок и даже суров. Пустяков не любил. Почитал силу и волю, как у любимого им Петра. Если Агнесса Ивановна сентиментальна, это еще ничего, она женщина. Но мужчине впадать в слезу из-за Озанама считал он зазорным. А слез вообще не любил (на всю жизнь осталось у Элли, как девочками они собрались в театр, на «Евгения Онегина» и мать была уже одета, и все заранее условлено.. – отец вдруг запретил, отменил выезд по каким-то своим соображениям – объяснять даже не стал. Обида была неожиданна, но воля, хоть и далекая от Петра, в семейном владычестве оказалась непоколебимой. «Нет, нет-с, незачем по театрам таскаться…». Плакали, но не поехали).
Летом выезжали на дачу, в Царицыно. Это Элли любила с детских лет и еще больше, когда подросла, когда близилось шестнадцать-семнадцать и она вытянулась в легкую, стройную девушку. Мелкие кудерьки светлых волос, очень мелких, всегда в беспорядке, нежный румянец, дух ветра и света носил ее невозбранно по рощам Царицына, над прославленными прудами, беседками, руинами Екатерининского дворца, недостроенного и брошенного. Геннадий Андреич снимал из году в год огромную дачу в Кавалерственном замке. Окна выходили на озеро, было просторно, светло, свободно. Геннадий Андреич не каждый день приезжал из Москвы – Исторический музей для него важнее Царицына («дачи все эти для дам-с, – говорил, – дамы, барышни там вот и пусть любуются природой и катаются на лодках!».)
Без него было свободнее. Больше мир матери, блаженно сиявшей эмалевыми глазами, полневшей, немало вкушавшей разных тортов, печений, конфет, варений.
Дядя Карлуша невозбранно вращался здесь, приезжала и тетя Лота, благодушная, как сестра, но еще могущественней: пройти в вагонную дверь ей было уж трудно.
Являлись разные юноши, дальние мамины родственники, больше с фамилиями немецкими. Вокруг жили тоже дачники. Немало московских немцев, любивших пить пиво в саду Дипмана, шумевших вечерами там – иногда и танцевавших. Но была и молодежь, студенты, барышни из Москвы. Анна держалась серьезней, она и вообще была строже. А Лина – веселая, белокурая, со склонностью к полноте, и Элли – шалили как хотели. Устраивали, например, состязание: кто больше съест конфет? Забирались в беседку, усаживались с удобствами, ноги в ноги, распускали корсеты и ели, ели… – Эйнемы и Флеи, и Абрикосовы беспрекословно работали на колесниковских девиц.