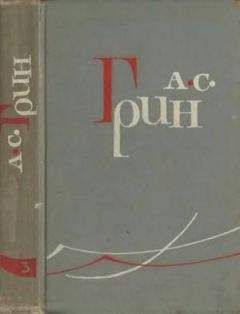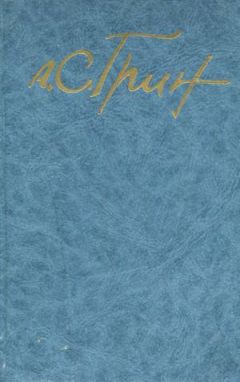Александр Грин - Том 4. Алые паруса. Романы
Занавес поднят. Избегая анатомии духа, невозможной в смысле окончательного исследования, скажу лишь, что история «Красных парусов», видимо, осязательно началась с того дня, когда, благодаря солнечному эффекту, я увидел морской парус красным, почти алым. Конечно, незримая подготовительная работа сделала именно такое явление отправным пунктом создания, но о ней можно говорить только как о предчувствии: я, например, слышу шаги за дверью и проникаюсь уверенностью, что неизвестный идет ко мне; я не знаю, кто он, как выглядит, что скажет и сделает, однако по отношению к этому еще не состоявшемуся посещению во мне работают неуловимые силы. Я ощущаю их, как теплоту или холод, но не властен понять. Наконец входит некто, в данном случае безразлично кто бы он ни был, и я перехожу к ясности сознания, действующего по определенному направлению.
Таким предчувствовавшимся, но не вошедшим лицом был, примерно, солнечный эффект с парусами. Надо оговориться, что, любя красный цвет, я исключаю из моего цветного пристрастия его политическое, вернее — сектантское значение. Цвет вина, роз, зари, рубина, здоровых губ, крови и маленьких мандаринов, кожица которых так обольстительно пахнет острым летучим маслом, цвет этот — в многочисленных оттенках своих — всегда весел и точен. К нему не пристанут лживые и или неопределенные толкования. Вызываемое им чувство радости сродни полному дыханию среди пышного сада. Поэтому, приняв солнечный эффект в его зрительном, а не условном характере, я постарался уяснить, что приковало мое внимание к этому явлению с силой хаотических размышлений.
Приближение, возвещение радости — вот первое, что я представил себе. Необычная форма возвещения указывала тем самым на необычные обстоятельства, в которых должно было свершиться нечто решительное. Это решительное вытекало, разумеется, из некоего длительного несчастья или ожидания, разрешаемого кораблем с красными парусами. Идея любовной материнской судьбы напрашивалась здесь, само собой. Кроме того, нарочитость красных парусов, их, по-видимому, заранее кем-то обдуманная окраска приближала меня к мысли о желании изменить естественный ход действительности согласно мечте или замыслу, пока еще неизвестному.
С этим неразобранным грузом, с этими мешками, хранящими, может быть, сокровища, а может быть, обломки и пыль, я ушел домой, где встретил Мас-Туэля и рассказал ему мою связь с явлениями солнечного эффекта. Мас-Туель только что вернулся из далекого путешествия, в котором по обыкновению совершил множество странных дел и видел то, чего мы никогда не увидим.
Спешу описать его наружность, дабы меня не упрекнули в отсутствии реализма. Мас-Туэль имел 33 года, был прям и красив, как морская птица, с движениями, равными ее легкости и достоинству. В его блестящих черных глазах чувствовалась душа владыки, обреченного жить под чужим именем. Его негромкий, авторитетный и ясный голос звучал свежо, как кларнет летним утром на воздухе. Он был гармонически худощав, коротко стригся, брил бороду, черные шнуркообразные усы его имели форму бровной дуги. Его одежда не представляла чего-либо особенного за. исключением того, что всегда было дорожной одеждой: сапоги, куртка, плащ и легкая беличья шапка. Только дома он одевался иначе, а как — рассказать это мы соберемся в другой раз.
Выслушав, Мас-Туэль сказал:
— Действительность идет вам навстречу. Некоторые очертания вашей неясной теме даны фактами, я тоже играл в них некоторую роль, на берегу Овального залива, как раз милях в сорока от того места, где мы узнали друг друга. Хотите послушать?
И он улыбнулся с той мужественной интимностью, какая влекла к нему женские и мужские сердца. Я вскричал «Да!» с не меньшим восторгом, чем выразил бы это самому вдохновению, кладущему вам подчас на плечо свою безупречную руку неожиданно и капризно.
Вернемся к витрине. Увидев бот, я вспомнил рассказанное Мас-Туэлем, вспомнил и то, что согласно моему плану должно было войти в развивающуюся так далеко отсюда действительность. Я испытал сильнейшее желание узнать все случившееся за этот промежуток лет, чтобы, наконец, закончить историю «Красных парусов» во всех подробностях фантазии, вытекающих из подробностей реальных. С этой целью я приехал сюда, в город, наиболее посещаемый Мас-Туэлем: только он мог сообщить мне дальнейшую судьбу Ассоль, ее друзей и врагов…
(1917–1918)
Мотылек медной иглы
Делопроизводитель губернского суда Варвий Мигунов, возвратясь со службы, прошел на кухню, чего никогда не делал, и остановился перед плитой, где старая Ефросинья, женщина мышиного типа, с острым носиком и бойко играющими лопатками узкой сутулой спины, прижав локти, размешивала соус с капорцами и красным перцем.
Сорок лет назад она готовила для Мигунова молочную кашицу. Поэтому Мигунов нисколько не удивился, услышав:
— Вам что здесь нужно, Варвий?
Это был голос занятого человека, с оттенком досады. Ефросинья даже не обернулась. Крылатку с капюшоном, зонтик, очки и яркие щечки Варвия она отлично видела в безукоризненном блеске медной кастрюльной выпуклости.
— Как устроено… э… — застенчиво сказал Мигунов, — устроено тут с плитой? Как она топится? Не выпадают ли на пол угли? Вот это я хотел посмотреть.
— Угли? — спросила старуха, с неодобрением игранув своими выразительными лопатками. — А что вам угли?
— Вы живете в своем мире, — кротко продолжал Мигунов. — Вы целиком ушли в хозяйство, кухню и тому подобное. Я не осуждаю. Но я, пользуясь вашими хлопотами, имею свободное время, в течение которого читаю газеты. А читать газеты — значит жить общественной жизнью. Вот почему мне стало известно, что сегодня ночью произошло еще три пожара. Во-первых, сгорел только что отстроенный дом в три этажа, милая Ефросиния. Это — кое-что; во-вторых, истреблены огнем восемь товарных складов. И, в-третьих, — от театра «Спартак», на Лунном бульваре, остались дымящиеся развалины. Таково действие огня. Я мнителен, Ефросиния. Сознаю, это мой недостаток. И я зашел посмотреть — зашел мысленно представить, не выпадают ли из плиты угли, и, если выпадают, то не могут ли они произвести пожар. Вот все. Я совсем не хотел вмешиваться в ваши дела.
— Бывает, что угли и выпадают, — сказала, смирясь, старушка, — но как вы знаете, — здесь каменный пол. С этой стороны вам нечего бояться, Варвий.
— Я тоже думаю, — подхватил Мигунов, — и я очень вам благодарен, что пол… гм… каменный. Я хотел только взглянуть, на всякий случай, конечно, — так, ради… не знаю ради чего, — нет ли среди каменных плит пола какой-нибудь щели… гм… обнаженности, так сказать, деревянных частей…
Здесь незамужнее сердце Ефросинии перебило Мигунова со строгостью самого революционного закона, которому он служил:
— Вы удивительно неприличны сегодня, Варвий! Что вы хотите сказать этими словесными выкрутасами?
— Какими выкрутасами?
— Можно притворяться, что не понимаешь, но вам любой ответит, что слово, которое вы употребили в отношении деревянных частей, — слово неприличное, ужасно грубое слово.
— Я ошибся, — встрепенулся Мигунов. — Я хотел сказать: — не попадет ли уголь на дерево. Кроме того, — продолжал он, со страхом наблюдая усиленную деятельность лопаток, но решаясь уже выговорить все сразу: — Когда вы ходите со свечой в кладовую, не грозит ли опасность с этой стороны, в виде могущей вспыхнуть паутины, бумаги и подобных вещей, легко охватываемых огнем? Быть может, какой-нибудь предохранитель…
Неизвестно, что подумала при последнем слове старая кухонная фея, но она фыркнула. Мы не хотим сказать этим ничего плохого о ее нравственности. Она фыркнула от презрения к умственным способностям Варвия Мигунова.
— Так вы думаете, что это случайность? — спросила она, оборачиваясь к Мигунову с раскрасневшимся от огня, язвительно играющим лицом. Тут она заглянула в ложку, которой мешала соус, и вкусно облизала ее. — Я не читаю газет, но мне кошка на хвосте приносит. И ворона. Да-с! Они тоже живут «общ-ще-ст-т-венной жизнью». Златогорск горит две недели. В городе сгорело восемнадцать зданий. А вы твердите о какой-то неосторожности! — Ефросиния обвела взглядом кухню, точно следя, не летает ли где эта смехотворная неосторожность. — Я говорю, что не вижу неосторожности! Я вижу злодеяние. Упорное, систематическое злодеяние черных злодеев! Ваша обязанность, как судьи — схватить и казнить этих злодеев немедленно, иначе вы тоже преступник!
Хотя Мигунов был только делопроизводитель или, вернее, архивариус, Ефросиния не сомневалась, что служить в здании Златогорского суда значит быть судьей.
— Преступник?! — вскричал Варвий. — Повторите это еще раз, прошу вас! Но, — прибавил он поспешно, так как старуха из упорства могла повторить что угодно, сколько угодно раз, — известно ли вам?..