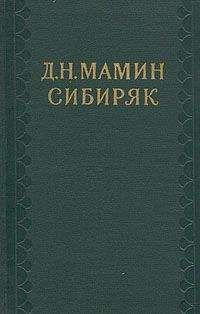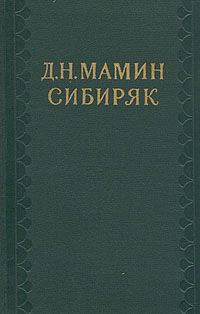Иван Шмелев - Том 6. История любовная
– По-моему, ты слишком… – мадам Пти Жако закашлялась.
– Слишком?.. – почесал у глаза Пти Жако.
Жюстин болтал про драку в кабаке «Крэмлэн».
– … скромен … – она все кашляла.
– Ну… для первого знакомства. Если все прикинуть… А, Розет, вот… снеси ему. Я жду ответа… так и скажешь. Напомни, что отель закрыт, но … если пожелает… ступай. В руки не суй, а на подносе!
Жюстин увлекся «дракой»:
– … тот, голландец, выпучил глаза… а тот, смокинг долой… и – бо-ксом!..
– Тот, иностранец?.. наш?.. – слушала-следила мадам Пти Жако и кашляла. Глаза горели, щеки рдели.
– Натурально! к барьеру, чорт возьми!.. Пти Жако потягивал винцо и думал.
– Говорят, бы-ыл номер! Все ведь американцы, чуть что – и боксом, стиль!
Жюстин рассказывал по слухам.
Иностранец зачастил в «Крэмлэн». Побил какого-то голландца. Конечно, пьяный. Иностранцу очень понравилась певичка… Снэ-шко… та, которую «накрыли», у ледников. Проводил в «Крэмлэн» все ночи, подносил цветы. Мрачный всегда и полупьяный. Как певичка выйдет – так и нацелится, весь перекосится даже, – прямо, страшный. Ну, втрюхался.
– Но… полный джентльмэн! Ни-ни… как платоническое чувство. Все так и говорили: обожа-ет! Пьет и – обожает, только. И – цветы. А у ней, будто, муж… и офицер! Тоже и у них стро-го на этот счет… чуть что – зарежет. У всех кинжалы… сами понимаете, народ восточный… женщины в гаремах. Но у нас, в Европе, этого нельзя, культура, все свободны. Стиль! Что между ними было – неизвестно. Вот, подносят е й белые цветы, все знают – от американца. Голландец, тоже целился. И крикни… а может и не громко, и скажи – «интересно, а за сколько можно ее иметь?» Тот и услыхал. Поднялся, и голландца – в это вот место, кулачищем. Слон, ведь… Долой визитку и – к боксу! Та, – в обморок, истерика… тут все казаки, натурально, за кинжалы, народ горячий… так и рвутся в бой! Но, как чудо… т а, с эстрады: «благодарю вас, мой рыцарь… мистер Паркер, успокойтесь! прро-шу вас, умоляю!.. казаки, по местам! я недоступна оскорблениям!» Сразу все смолкло, и… на «баляляйки» заиграли. Говорили приятели… мистер Паркер был до слез расстроган… такой, заплакал! Вот это – сти-иль!
– Вы это выдумали, Жюстин… это из какой-то фильмы, – сказала мадам Пти Жако, – слишком уж… романтично, и очень глупо.
– Ma-дам! – с укором сказал Жюстин, – я там не был, но… говорили.
Розет вернулась:
– Требует патрона…
– Как ты ему сказала? – спросил Пти Жако не без волненья.
– Да как… как вы велели. Если не хотите, – уезжайте, отель закрыт.
– Деревня! – ляпнул Пти Жако по столу ладонью, – «если не хоти-те!..» Ну, дальше?
– Перекосился, зубы показал и говорит – «патрон»!
Пти Жако плюнул, выпил «песочного» и объявил решительно:
– Надо кончать. А чем я, в сущности, рискую! В окопах и не то видали. Идем, Жюстин, будешь за переводчика. У тебя всякие слова… можешь поговорить, как Цезарь. Ну, вперед!
Пти Жако почувствовал отвагу, поправил галстук и потер лоб в пупырках. Но Жюстин мялся что-то. Все-таки… как-то не совсем удобно, могут быть неприятности с его отелем: скажут, работает дублетом, на два фронта. Выходит не совсем красиво. Пти Жако просил: никто не скажет, тип, очевидно, не останется, все кончим сразу…
– …и отвезешь прямо в Биарриц.
– Ну, идем! – решился, наконец, Жюстин, – не то видали!
На лестнице он справился, не слишком ли «хватили», хотя с ним в этом отношении ни разу не было зацепок.
– Нормально… – сказал Пти Жако уклончиво, – если за километр семь франков… нормально!
Иностранец смотрел на океан и пускал клубы дыма. Услыхав шаги, он обернулся, поморщился и помотал бумажкой.
– Ага… – хрипнула прыгнувшая трубка.
Пти Жако изысканно склонился. Жюстин застрял у самой двери.
– Мистер желает?.. – начал подходчиво Пти Жако.
Иностранец шагнул к столу, швырнул бумажку и стукнул по ней трубкой:
– Это… как называется? – сказал он скучно.
Пти Жако повернул голову к Жюстину.
– Калькуляция, мистер. Тут все прикинуто. Если отель только для одного мистера… Па… Панкера, то … калькуляция дает такое… – ткнул он в бумажку пальцем и повернул голову к Жюльену. – Если это вас не устраивает, мистер Па… Панкер, вы свободны располагать. Важные дела требуют меня в Бордо, я каждый день теряю большие тысячи, и…
– … и даже не понимают по-английски!
– Будут понимать, мистер Пан-кер! Все предусмотрено. Будут и ковры, и стол, самый изысканный… две спальни, две ванны, все, что необходимо… все принадлежности, полное удобство и… полное уединение! Мистер останется доволен.
Пти Жако заметил, что у иностранца глаза не зеленоватые, как у кота, – так почему-то показалось, – а синеватые, и мягкие. И лицо не каменное вовсе, а даже выразительно-приятное.
– Вы бьете все рекорды… – сказал с усмешкой иностранец, – шесть тысяч пятьсот – в день, без пансиона… Вы далеко пойдете.
Пти Жако повернул голову, но увидал зеленовато-клетчатую спину. Взглянул растерянно на иностранца, встретил спокойный взгляд и услыхал знакомое – «э-э… сода-виски».
Это – «сода-виски» иностранец бросил пренебрежительно, и Пти Жако это почувствовал определенно. И поднял, чувствуя дополнительно – победу. Но надо было убедиться, действительно ли победа это, а Жюстин улизнул, как заяц. Пти Жако начал, было, почтительно – «достоуважаемый мистер Панкер…», – но иностранец повернулся к нему спиной. Эта внушительная спина показалась ему пустой, но он почувствовал что-то в ней, – усталость, скуку?.. Иностранец подошел к окну, оперся о косяк, смотрел. Пти Жако помялся, боясь потревожить. Но надо же, наконец, узнать определенно: «сода-виски» есть сода-виски, только. Он взял со стола бумажку.
– Очень извиняюсь, мистер… Па-нкер? – он помотал бумажкой и постарался лицом и жестами пояснить, чего не мог высказать словами.
Иностранец не оглянулся, только скучно махнул два раза – да, да… Пти Жако молча поклонился и отступил неслышно, на-цыпочках. В раздумьи, спускался с лестницы, мысленно видел спину и скучный взгляд, и было как-то не по себе, как бывает от странных снов. На тревожный вопрос жены он сказал без особого подъема:
– Остается. И сода-виски. Жюстин?..
Жюстин неожиданно уехал.
* * *В комнате небогатого отеля Ирина Хатунцева – Таня Снежко, по ресторану, – солистка русского хора Боярского, писала письмо мужу. Его портрет, в веночке из васильков, давно увядших, стоял перед ней на камушке. Камушек этот – даже не камушек, а комок затвердевшей глины – был для нее священным – символом родины. Она схватила его в последнюю минуту на станции «Таганаш», перед Джанкоем, при отступлении, когда обстреливали последний поезд, и она втаскивала в вагон залитого кровью добровольца, ловившего померкшими губами и просившего жутким хрипом – «дышать… дайте…» Раненый отошел на ее руках, залив ее платье кровью. А она все держала его руку на этом комочке глины и спрашивала гремевший поезд: «а Виктор?.. где-же Виктор?..» Теперь Виктор был с ней, недалеко, в санатории, и давний портрет его, в выцветшей форме добровольца, на этом кусочке родины, залитом русской кровью, вызывал ласковые слезы. Она писала:
…сентября 192… Биарриц.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…ему я верю, это хороший диагност и большое сердце. Он сам много выстрадал и не может лгать. Если С. говорит, что ты скоро поправишься, то так и будет. Твой пессимизм – это просто нервы, ужасное твое шоферство их совершенно размотало. 22-го, годовщина нашей свадьбы, – подумай, уже пять лет! – я непременно вырвусь к тебе. Помнишь, какой это был светлый день, и какая ужасная тревога. Симферополь, пустая церковь, наши калеки-шафера, и в тот же вечер – фронт, разлука… Ночи в лазаретах, вечная тревога, слухи эти, угасающие глаза, одинаковые у всех, такие чистые, юные, святые! Каждую минуту ждала я страшного, но Господь сохранил тебя, и мы теперь неразлучно вместе. Сердце у тебя хорошее, а это, милый, перемести-лась пуля, это рентг. сним. ясно дает, нажала на какой-то сосуд, отсюда и кровоизлияние. Такой случай был у одного фр. офицера, я знаю точно. Надо бросить шоферство, сядем на ферму и будем у себя. Нечего и думать о Париже, Бог с ним. Четыре тыс. отложено, и я за посл. месяц напела почти три, сезон горячий, недавно один голландец пожертвовал 300 фр., нашла в букете… шикуют иногда. Побольше бы… И я сделалась жаднюхой, но это чтобы ты был покоен. Петь и м, в таком угаре… папа бы что сказал! Петь о нашем, это мы только можем чувствовать. А для них никакой разницы: и т а м, и мы – одно и то же – «Решен». В этой ужасной атмосфере у меня кружится голова, и вспомнишь вдруг тот запах кровавых тряпок, ран…, а они ничего не знают, что такое страдать, терять… только – ан-кор, ан-кор!.. Это льстит мне, но только вспомнишь… И тут же наши, все потеряли, все отдали… и вот, увеселяют. Бывают минуты, мне схватывает горло, не могу петь, и тогда вызываю твое лицо, глаза, и только тебе пою, ты для меня все родное. Милый, единственный… зачем я тебе пишу все это? Но, знаешь, все-таки я не совсем права, даже и в нашей яме есть светлые точки, хоть и редко. Один молод. америк. Чарли ужасно привязался к нашим казакам и зовет к себе на кауч. плантации, только петь! Что-то и в нем разбудили наши песни, м. б. открывают узкой его душе какое-то раздолье, какую-то вольную свободу, кот. они забыли. Это уж атавизм, а у нас живое. Мы для них какие-то странные, чужие, и будто близкие. Это придает мне силы. Редко это, но и одним праведником спасется град. И еще швед один, старик, кот. жил в России. Играли балалайки, и наш запевала Тиша – помнишь, пулеметчик, курский, который у мучника служил? – начал коронное свое «Ходит ветер у ворот», и когда балалайки пустили «ветер», бешеные эти переборы и «молодую красотку», неуловимую и для ветра, что только со шведом сделалось! Вскочил, замахал, затопал и стал кричать, по-русски, – «русски ветер, шведски ветер, коледни, горячи, мой!..» Если бы все так чувствовали, все бы по-другому было. Ах, милый… нет, мир еще не совсем опустел, это от нервов у тебя такое горькое. Как хорошо сказал о. Касьян… помнишь, был у нас старичок-монах из Почаева, заходил в августе?