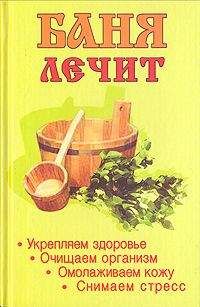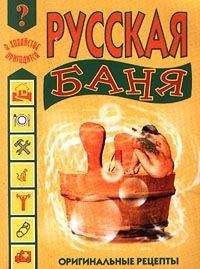Александр Куприн - Голос оттуда: 1919–1934
Одновременно с этими опытами над собакой в лаборатории И. П. Павлова идет необычайно интересное наблюдение над белыми мышами. Первое поколение этих милых зверьков было, после долгой дрессировки, приучено прибегать для кормежки по звонку. Второе поколение оказалось податливее, третье — еще более. И вот, наконец, тридцать пятое поколение прибежало, без всякого предварительного обучения, на первые звуки колокольчика.
* * *Знаменитый ученый не делает из своих опытов никаких сближений или сопоставлений с суетой и беготней мира сего. Человеческие страсти, ненависть классов, борьба политиков — совершенно чужды его уму, устремленному в глубь и в высь вечного. Но нас, людей слишком земных и потому привыкших мыслить образами, замечательные опыты И. П. Павлова повергают в печаль и тревогу.
В самом деле, опыт над собакой, которая начала с того, что визжала и рвалась от боли, причиняемой током, и — голодная — отказывалась от пищи, а кончила тем, что, забывши про станок и про боль, виляла хвостом и, конечно, лизала руку экспериментатора, — ведь этот опыт был проделан большевиками в дьявольски огромном размере, причем лабораторией им служила целая треть земного шара.
1918 и 1919 годы не были неурожайными, но большевики умышленно создали эти проклятые условия, когда паек в осьмушку фунта скверного хлеба стал недосягаемой небесной радостью. Большевики знали, что в мире нет тиранов более безжалостных, чем еда и стремление к размножению, причем требования желудка гораздо повелительнее любовных зовов. С первого соблазна они и начали.
Когда люди, истощенные постоянным недоеданием, умирали сотнями в трамваях и на улицах, около стен и заборов, Троцкий сказал презрительно:
— Это вы называете голодом? Голод будет тогда, когда мать съест свое дитя.
Сам Сатана, несомненный пособник большевиков, послал России и это ужаснейшее испытание. Миллионы людей умерли от голода, и людоедство стало обычным явлением. Это неслыханное бедствие и привело большевистский опыт к блестящим результатам.
Собака потеряла защитные рефлексы. Человек духовно куда выше и богаче животного. У него, кроме инстинктов родины, чести, свободы, добра, религии, еды и любви, есть еще понятия о семье, сострадании. Все пошло насмарку перед голодными спазмами желудка. От сопротивления, которое оказывала Россия большевикам в первые времена узурпации ими власти, не осталось и следа. За ломоть хлеба стало возможным не только предаться коммунизму, но предать коммунистическому застенку самого близкого человека и, уж конечно, вытерпеть любое унижение, самое жесточайшее оскорбление, виляя хвостом и лижа руки владыки.
А когда наступили в России времена сравнительной сытости и высокие движения человеческой души оказались почти атрофированными, большевики приступили к широкому опыту над вторым могучим жизненным стимулом: над половым влечением Начали они с венчания вокруг ракитового куста и с разрешения абортов…
Но не смеем мы винить несчастных русских людей. Нет воли, которая не погнулась бы при таких тлетворных опытах. Что делать! Скоро появится на свет и тридцать пятое поколение белых мышей!
P. S. Ссылки на теорию И. П. Павлова беру из статьи В. В. Драбовича в «Последних новостях».
У русских художников*
I. С.А. Сорин
Я люблю бывать в мастерской этого замечательного живописца. В ней нет ни ярких лоскутьев, небрежно разбросанных на полу и на мебели, ни леопардовых шкур, ни дикарских копий, ни парчи, ни железных фонарей, ни медных кувшинов, ни фаянсовых черепков, ни прочей претенциозной рухляди, утомляющей глаз и рассеивающей внимание. Зато есть глубокая тишина, мягкий спокойный матовый свет и много воздуха. Мне кажется, в такой простой обстановке писали свои строгие картины средневековые художники-монахи.
И потом, разве можно сравнить те ощущения пестроты, беготни, тесноты, усталости, головной боли и отупения, которые испытываешь на художественных выставках, со спокойным созерцанием картины, наедине с нею, у нее дома, в том месте, где она была зачата и рождена?
* * *В этот день я уже не застал двух портретов, знакомых мне по прежнему, давнишнему посещению: Н. И. Кованько и Льва Шестова. Я их видел одновременно, и меня тогда надолго заставила задуматься разница в психологических и в художественных подходах Сорина к двум столь различным сюжетам. Прекрасная звезда кинематографа, нервная и чувствительная артистка, живущая неправдоподобной жизнью экрана и ослепляемая дьявольским огнем прожекторов, царица толпы и ее раба. И рядом с нею, в коричнево-желтых тонах, — резко и сильно выписанная голова оригинальнейшего из современных философов — голова апостола Фомы, — умиленного и сомневающегося, страстно верящего и жаждущего полной веры через осязание… Эти портреты — два полюса. Чтобы их написать, надобна, кроме искусной кисти, проникающая и понимающая душа.
* * *Уверенными, медленно-точными, привычными, чуть-чуть медвежьими движениями поворачивает Сорин мольберты и ставит на них картины в подрамниках. Это все материал для будущей весенней выставки. Художник мне ничего не объясняет, я не делаю ни вопросов, ни — упаси Аллах — замечаний. Так-то лучше.
Вот портрет балетной артистки (не классической) г-жи Н. О нем я слышал раньше, и при первом же взгляде на полотно миллионный раз убеждаюсь в том, как узки и слепы мнения прохожих.
Говорили мне только о «дерзновенной» наготе. Да, наготы здесь много. На прелестной цветущей женщине одежды всего лишь коротенькая шелковая юбочка, гораздо выше колен. Весь ее торс обнажен; он худощав, гибок и силен; очертания груди девственны; тон тела нежно-розовый с серебристо-шелковыми бликами на ярко освещенных изгибах. Ноги поставлены широко и крепко, отчего коленные чашечки чуть вогнулись, потемнели, сморщились. Поза обыденная, домашняя, простая. А все вместе так естественно, целомудренно и чисто, что лишь профессиональному павиану захочется здесь зачмокать мокрыми губами…
А через дверь, на очень высоком мольберте, портрет женщины с гитарой. Она одета с величайшей скромностью: серо-синее платье и красный легкий шарф оставляют открытыми лишь голову и кисти рук. Но отчего же от ракурса ее головы, закинутой назад, склоненной и повороченной влево, от ее нетерпеливой улыбки, от жгучей тревоги ее глаз веет искушением, зовом и сладким грехом? Менада в современном приличном платье!
А вот чудесный портрет русской волжской женщины, в ситцевой розовой поношенной кофте, в юбке кирпичного цвета, с головой, плотно обвязанной белым полотенцем. Красива ли она? Нет, черты ее лица неправильны. Но в этом своеобразном, ни на какой собирательный образ не похожем лице, в изумительном рисунке бровей, в здоровой свежести щек, в спокойном и сильном взгляде, в золотом загаре рук есть больше, чем красота, есть та глубокая, ненаглядная и неизъяснимая прелесть, высшая, чем красота, — прелесть русской женщины.
И опять, как аккорд, взятый в новой тональности, захватывает внимание и волнует портрет молодой еврейской девушки. Цвет лица у нее бронзово-оливковый (не глядите на меня, что я опалена солнцем). Одежда груба, точно из верблюжьей рыжей шерсти, и перевита жестким темно-красным шарфом. А голова и глаза повернуты вправо как будто бы с ожиданием, вопросом и предчувствием. Не так ли Рахиль смотрела на приближающегося Иакова перед тем, как дать ему напиться воды и напоить его верблюдов, что было предсказано Исааком.
Чудесен портрет молодой леди Керзон. Холеная, упругая, независимая голубоглазая англичанка. Очень хорош казак-инвалид — лицо крепкого и спокойного отшельника — в французской рясе.
II. Н.Л. Аронсон
Искусство ваяния всегда внушало мне чувство почтительного удивления, близкого, пожалуй, к священному ужасу. В самом деле, кто из художников был первым: тот ли, который вырезал на оленьей лопатке чудесную сцену охоты, или тот, кто вылепил из податливой глины подобие человека и зверя? И кроме того: живопись, музыка, зодчество, танец и слово на своих технических путях пользуются сотнями усовершенствованных приемов и средств, а ваяние и по сию пору так же первобытно, и просто, и наивно, как оно было десять тысяч лет назад. Материалом осталась та же глина. Орудиями — десять пальцев да какая-то жалкая щепочка. Что же касается камня, то стократно был мудр скульптор, обмолвившийся однажды великолепным словечком: «В каждом кусочке мрамора заключена прекрасная статуя; надо только убрать лишнее».
Не могу я без волнения созерцать процесс лепки, когда ваятель мнет, жмет, тискает, ковыряет, насилует огромный кусок сырой глины, вдавливая его в форму человеческой головы. Меня поражает смелость, почти дерзость ваятеля. Случалось ли вам видеть, как энергичная молодая мать моет своего пятилетнего ребенка? Вся его головенка в густой мыльной пене. Из широко разинутого рта несутся самые трагические вопли. Беспощадные материнские пальцы залезают разом и в глаза, и в уши, и в рот. Так и хочется крикнуть мучительнице: сударыня, нельзя же так зверски поступать с беззащитным младенцем! Но попробуй-ка скажи…