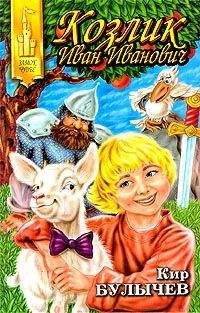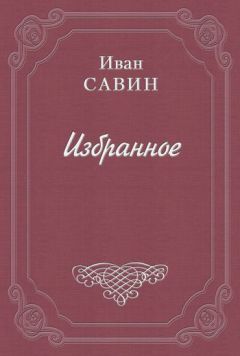Яков Ланда - Последний звонок
Мужчина лежал неподвижно, вцепившись руками в края постели. Он невольно сделал шаг вперед, чтобы увидеть его лицо, хотя уже понял, кто это. Физкультурник. Он совсем забыл, что находится прямо перед ней.
Она глядела ему в глаза, как смотрят, онемев, в глаза человеку, за спиной которого на него несется невидимый им поезд.
"Уйди", - беззвучно взмолились ее губы, и он повернулся, в несколько прыжков добежал до забора и, ободрав руки и плечо, поспешно, словно за ним гнались, вернулся домой. Дома упал вниз лицом на диван и мгновенно погрузился в сон без сновидений. Утром мать не разбудила его, и он проспал почти до захода солнца. Потом несколько дней не выходил из дома. Случайно узнал, что Татьяны Григорьевны в городе нет. Вернулась она только через неделю.
Он сидел у раскрытого окна, когда перед ним возникла соседская девочка с огромным розовым бантом. Приподнявшись на цыпочки, она положила на подоконник толстый журнал и степенно удалилась. Журнал был обернут, в обложку вложен лист бумаги. На нем рукой Татьяны Григорьевны было написано: "Приходи, пожалуйста, вечером, нам надо поговорить. Бумагу эту порви".
Время так тянулось, что до вечера он, кажется, повзрослел еще на год. Идти туда было невозможно. Но невозможно было и не идти. Поздно вечером он выскользнул на улицу и шел, вдыхая глубоко и прерывисто, как на приеме у врача. Она сидела на террасе. Не глядя на него, тихо заговорила. Он слушал, опустив голову.
Она просто не знает, что теперь делать. Она ездила к своей матери, это довольно далеко. Она решила переехать к матери. Совсем. Хотя она не знает, чем все это кончится. Она боится. Уйти от него будет очень трудно. Он словно завладел ее душой и телом, совершенно подчинив ее себе. Это началось давно, после войны, когда он во время голода подкармливал их с матерью. Потом был очень внимателен к ней в школе. А потом...
Он знает. Откуда? Знает, и все. Он первый раз пришел сюда ночью? Нет. Последний раз пять лет назад... Мучился, ругал себя, но все же приходил.
Странно, она однажды подумала, что так могло быть: когда-то ночью ей показалось... Но не была уверена. Что она о нем думает? Она его презирает? Бедный глупый ребенок. Почему бедный? Потому что... Ей жалко его. Как тогда, после того педсовета. Почему он снова пришел сюда ночью? Он знал? Нет, не знал, он сам не знает почему. Хотел увидеть ее спящей. Знает ли она, что он ее любит? Конечно.
Любит она этого? Нет. И он больше не придет. Тогда почему? Трудно объяснить. Она уступила, он ее просил... Он сказал, что влюбился в нее. Ведь для нее это самое - совсем не важно, она привыкла, что это нужно... ну, не ей. До этого она ничего не знала о себе и не понимала, как это может быть. Да, замужем. Но того она воспринимала по-другому. И она хотела узнать. Да ведь и с ним не успела... Теперь уже все.
Она так откровенна с ним сейчас, потому что так все случилось, но получается, что он знает о ней больше, чем любой другой. Она понимает, как он сейчас страдает. Она знает, что он любит ее. Она уедет, и они уже никогда не увидятся? Да. Да.
Как тогда это все произошло, он не помнил. Какой-то дурман накрыл и затопил их обоих, и уже в ее объятиях, с горящей от немыслимых этих прикосновений кожей, он понял, что, собственно, с ним происходит, но все происходящее не вмещалось в пределы его сознания. А потом он все забыл.
Но оказалось, что само тело его сохранило память об этом. Беспомощно распростертое сейчас на больничной кровати в ожидании ему предстоящего, оно напомнило ему, как именно это было.
...он не решался, смертельно боясь этого мгновения, хотя уже пробудившийся и слепо тычущийся повсюду, казалось, вышел из повиновения и сам рвался в неизведанное. Руки и губы его еще лихорадочно ласкали ее, но тут она тихо охнула, и он с ужасом и восторгом почувствовал, что она вся раскрылась ему навстречу, и он в ней, и карабкается во тьме по устланному мягким и скользким мхом крутому склону, извиваясь всем телом и отчаянно пытаясь не сорваться до вершины, за которой открывается ослепительный свет, и вот уже уносится, подбрасываемый на частых порогах залитой солнцем бурлящей реки, упрямо преодолевая подъемы и с замиранием сердца проваливаясь на спусках, а она бережными, но уверенными движениями рук помогает ему, удерживая этот челн в ежесекундно меняющемся русле, а потом, слившись в единое целое, они наконец достигли края этой пропасти и легкой щепкой, веточкой, трепыхающимся листком понеслись в бешено кружащем их потоке к невидимому ее дну, а там...
Дразнимый в эту волшебную ночь целым сонмом бесов, он потом захотел испытать все, что некогда видел, хотя и стыдился: ведь она все это, конечно, понимала. Но она покорно и терпеливо исполнила все его просьбы. Коленопреклоненный, он смотрел поверх склоненной книзу копны русых волос на усыпанное бриллиантами звезд и изредка озаряемое тонкими росчерками небо и недоверчиво покачивал головой, боясь, что этот фантастический сон вот-вот кончится.
Так оно и случилось. Лежа за ее спиной, он слегка прижимал широко раскрытой ладонью руки ее грудь, не давая ей сотрясаться, когда с той самой стороны, откуда он когда-то впервые появился в этом дворе ночью, послышался шум. Кто-то, пытавшийся подкрасться поближе к веранде, запутался в колючем кустарнике с той стороны забора.
Они приподнялись на кровати, чуть раздвинули виноградную завесу и всмотрелись. Там был не ребенок, а взрослый человек. У него неожиданно мелькнуло: физкультурник, но она, вглядевшись в четко очерченный на фоне предрассветного неба силуэт, вдруг в ужасе выдохнула: "Иван Иванович..."
Дрожащими руками она помогала ему одеться, и их лихорадочные действия напоминали комически ускоренные кинокадры, притом что их участники были охвачены смертельным страхом. Это было так похоже на Ивана Ивановича: досрочно вернувшись из поездки, он, подойдя к двери дома, услышал, что происходит на веранде, но не ворвался туда, а решил подобраться с другой стороны, чтобы все узнать. Но днем ему тут бывать не приходилось, а в темноте найти путь во двор он не смог и сейчас вслушивался в доносившиеся с веранды лихорадочный шепот и шорохи. Потом повернулся и двинулся обратно. Идти ему минут пять. Значит, бежать надо не на улицу, а сюда же.
Едва одевшись и не успев даже попрощаться с ней, он скользнул в знакомый лаз, вылез на пустырь и выпрямился. Прямо перед ним стоял Иван Иванович.
Ноги приросли к земле, и силы окончательно покинули его. Завуч посмотрел оценивающе и тихо спросил:
- Насмотрелся? И что, кончилось кино? А тот куда делся - на улицу? Ну, ладно. Иди домой спать. Погуляй эти дни, в школе поговорим. Расскажешь, что ты там видел. Но ни с кем не болтай. Понял?
Привычным движением провел рукой по его груди, там, где был нагрудный карман, и уверенно запустил руки в карманы его холщовых "китайских" брюк. Обыскиваемый не сопротивлялся, стараясь лишь удержаться на ногах. Завуч повернул его и толкнул в спину, но снова задержал и ощупал задний карман брюк. Вытащил и развернул тот самый, вчетверо сложенный листок бумаги, который он вчера не разорвал, а машинально сложил и спрятал. Иван Иванович достал очки, развернул листок, медленно, словно он был исписан полностью, прочел и аккуратно сложил.
- И где ты это взял, тоже вспомни. Иди, иди...
Он покорно побрел домой. Прежняя жизнь разом кончилась.
Потом Иван Иванович, не спеша, расстегнул ремень и вытащил его за пряжку левой рукой, затем протащил сквозь сжатые пальцы правой, выравнивая и одновременно пробуя на прочность. Это был ремень темной кожи, с многочисленными морщинами, узкий и тонкий, но стегающий невероятно больно.
В практике Ивана Ивановича сия мера наказания считалась высшей и применялась относительно редко. Градации были хорошо известны.
Неутомимые говоруны, не внявшие уже однажды внимательному взгляду Ивана Ивановича, могли до конца урока простоять на коленях по обе стороны учительского стола лицом к классу, стараясь не встречаться взглядом со смущенными одноклассниками.
Однажды за дверью при этом раздались громовые раскаты директорского голоса, и оба коленопреклоненных нарушителя с ужасом переглянулись. Тонко поняв ситуацию, завуч мановением руки цезаря, дарующего жизнь гладиатору, возвратил проказников на место. Директора боялись и не любили, Ивана Ивановича - боялись и уважали.
Бывало, посмотрит Иван Иванович со значением на расшалившегося не в меру, вытащит из кошелька десять копеек - только что ввели "новые" деньги, и все носили подорожавшие вдесятеро монеты в кошельках, а не в карманах, - и аккуратно выложит их на край стола. Первое предупреждение. Оно же и последнее, ибо на следующий раз монетка молча протягивалась шалуну, хорошо знавшему, что ему предстоит. Собрать учебники, одеться и брести в центр города, к парикмахерской. Войти сквозь клубы пара в гостеприимно открытую дверь, усесться на свободный стул и терпеливо ждать своей очереди, уныло разглядывая истрепанные обложки журналов, где корчащиеся от злобы и зависти империалисты беспомощно взирали на победную улыбку проносящегося по небу искусственного спутника Земли с лихими вихрами антенн и веселыми глазами иллюминаторов. Очередь неумолимо подходила, и толстый добродушный парикмахер встречал клиента, как пациента, сочувственно понимающим: "От Ивана Ивановича?.. Наголо, значит..." - "Налысо..." - с печальным вздохом соглашался клиент. Впереди еще было объяснение с родителями, а потом долгие недели отращивания волос под назидательными взглядами других педагогов и на фоне полной потери успеха у прекрасной половины класса, с головой - как искусственный спутник, но без антенн и победной улыбки.