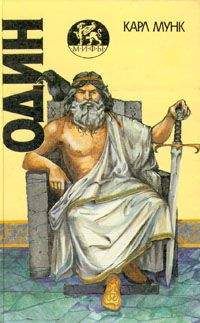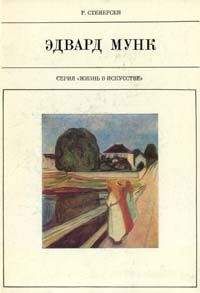Борис Зайцев - Том 2. Улица св. Николая
– Выплывай, – говорила с берега Катя, – я тебя покормлю.
И посвистывая, как бы подзывая чудовище, Катя бросала в пруд листья, пучки травы.
Мать делала бессмысленное лицо (такое, по ее мнению, должно было быть у бегемота), подплывала и ртом старалась поймать пищу. Она фыркала, пыхтела. Поднося что-нибудь лакомое к ее носу, Катя могла выманить ее и совсем на берег. Мать выходила на четвереньках, потом лапой хватала предложенное, радостно мычала и от восторга ложилась на спину. Роль бегемота окончена.
– Слушай, слушай, – сказала раз Мать, – если б сейчас этот Машечкин проходил, выбежать бы ему навстречу в таком виде… Он бы опять с места ушел.
Катя купалась меньше, – у ней от воды болела голова и под глазами являлись круги. Ее занятием стала здесь верховая езда. Колгушина это также ущемляло – в горячую пору лошадей жаль. Но отказать «барышне» – хотя по худощавости она и не совсем была в его вкусе – он не мог. Тот же Машечкин, оригинал малого роста, иногда утверждавший, что служил раньше начальником станции, – с великой неохотой седлал Кате лошадь. Он бурчал про себя нечто неодобрительное о людях, которые только и знают, что ездят верхом.
Кате это надоело. Раз она даже обошлась с ним внушительно. Машечкин, в виде протеста, отказался седлать. Но результат получился печальный. Катя спокойно отправилась к Колгушину.
– Да, отказался вам седлать? Скажите пожалуйста! Вот народ. Девушка, – обратился он к босоногой работнице, – позови-ка сюда Гаврилу Семеныча.
Через полчаса Машечкин, очень смущенный, явился к Кате.
– Виноват, барышня, извините, если обидел.
Катя сказала, что ничего, но Машечкин не уходил.
– Петр Петрович приказали, чтобы я документик от вас взял.
– Какой документик?
Оказалось – она должна была письменно его простить. Стараясь быть серьезной, Катя на клочке бумаги написала: «Против Гавриила Семеновича Машечкина ничего не имею и прошлое забыла. Екатерина Савилова».
Вечером Колгушин спросил ее:
– Довольны? Да, извинился? С этим народом иначе нельзя. Надо их, знаете ли, костыликом, костыликом.
Этот разговор происходил на балконе, за вечерним чаем, которым распоряжалась Мать. Был тут и Панурин.
– Ра-асписку дали? – переспросил он. – Это солидно. Сейчас видно осно-вательную девушку.
– У меня очень строгая Мамаша, – засмеялась Катя, – вот она меня и вымуштровала.
Колгушин поддержал ее.
– Строгая. Я нахожу, что это иногда полезно бывает. Например, с народом. Но ваша сестрица, по-моему, даже веселая. Она, говорят, замечательно подражает лягушкам. Во время купанья устраивает игру в каких-то зверей. Да, да, да. Вообще мои дачницы очень оживляют местность.
Панурин покачал головой.
– Ваши дачницы очень го-ордые. Вон Екатерина Михайловна верхом ездит, а ко мне ни разу не заглянула.
Катя немного покраснела.
– Вы меня к себе не приглашали.
– Ра-азве не приглашал? Ну, это, конечно, глупо с моей стороны.
В тот же вечер, несколько позже, сидя с Пануриным вдвоем в гостиной, на диване у этажерки, Катя спросила:
– Вы в первый день, как мы приехали, в саду, говорили про надломленность. Это что значит?
– Ни-ичего особенного. Говорил, что есть люди надломленные. А у моло-дости этого нет.
Он внимательно и ласково посмотрел на Катю.
– Оттого моло-дость и вызывает нашу нежность.
Катя вдруг встала и бесцельно подошла к этажерке.
– Вы что? – спросил Панурин.
– Нет, ничего. Петр Петрович, – громко обратилась Катя к Колгушину, щелкавшему на счетах в своем кабинетике, – вы мне дадите завтра верховую лошадь?
– С великим удовольствием. Когда вам угодно.
Не такое уж громадное удовольствие доставила ему просьба, но отказывать не приходилось.
Панурин поднялся и зашел к нему в комнату. Катя тоже вошла.
– Мы вам мешаем, но это ничего, – Панурин усмехнулся, – вечером человек не должен работать.
Колгушин улыбался, склоняясь вперед, и поглаживал рукою свой бобрик.
– По вечерам не должен. Совершенно верно. День позанимался, а вечером отдыхай. Но знаете ли, не успеваешь за день. И приходится при лампочке.
В небольшой комнате Колгушина стоял письменный стол, на котором лежал револьвер, «Русское Слово», и валялось несколько накладных. На стене над столом благодарственная бумага – за содействие открытию почтового отделения. Рядом медаль отдела общества сельского хозяйства.
Панурин удивился.
– Сколько на-аград. Вы скоро гене-ералом будете.
Колгушин радостно посмеивался. Потом вынул из коробочки желтый жетон и вдруг серьезно обратился к Панурину:
– Это, Константин Сергеич, я получил за помощь в постройке местной церкви, взамен сгоревшей. Но не знаю, как надевать, – да, на ленточке ли на шею, или же в петлицу?
Панурин основательно рассмотрел жетон.
– В пе-етлицу обязательно. Будет похоже на орден Почетного Легиона.
– Скажите! Это, кажется, французский орден?
– Самый фра-анцузский. И самый важный.
Колгушин слушал с большим вниманием. Этого нельзя было сказать о Кате. Она глядела в окно, переходила с места на место.
Петра же Петровича вопрос об орденах немало занимал. И Константин Сергеич должен был рассказать, что знал об орденах прусских и саксонских. Затем разговор сошел на любимую тему Колгушина – о загранице и Германии. Он с восторгом расспрашивал и узнавал, как там все чисто, удобно и дешево.
Катя уселась на подоконник. Неожиданно она перекинула ноги наружу, спрыгнула и пошла в сад.
Колгушин обернулся.
– Мы, кажется, барышню заговорили. Даже не могла досидеть.
– Это во-озможно. Да и мне пора, говоря по правде.
Он вынул часы, взглянул и пошел за своим кепи. Панурин был в ботфортах, он приехал верхом.
Петр Петрович пытался было его удержать, но не очень: у него самого начинали слипаться глаза; завтра же предстояло вставать «часика в четыре».
Хмурый старик подвел Панурину коня. В кепи и австрийской накидке Панурин был похож на какого-то конного сержанта. Ублаготворив старика монеткой и кивнув хозяину, он шагом объехал группу елок и тронул рысцой вдоль липовой аллеи. Было довольно темно и тепло. Очень сладко пахло липами, все небо в звездах бежало навстречу. Звезды цеплялись за купы листьев.
Панурин был в том несколько элегическом и размягченном настроении, с каким одинокий человек его возраста может ехать домой теплой летнею ночью. Покачиваясь в седле, глядя на туманные и милые Плеяды, возможно думать о проходящей жизни, неуловленных минутах счастья, чего-то жалеть и улыбаться на что-то. Возможен приступ к сердцу смутной нежности. Так чувствовал он; и его несколько удивило, когда у околицы, за которой начиналось поле, его окликнули; голос был негромкий, он сразу узнал его.
– Вы здесь за-ачем? – спросил он, останавливая лошадь.
Катя сидела на заборе, у околицы, слегка съежившись.
– Я просто сижу, мне там стало скучно.
– Да, вот ка-ак. Я, впрочем, заметил.
– Жаль, что нет лошади; я бы поехала вас проводить.
Панурин согласился, что жаль.
– Впро-чем, – прибавил он, – мы мо-ожем пешком пройтись.
Он слез с лошади и подвел ее к забору. Катя сидела неподвижно.
– Это какие звезды? – Она указала на туманную группу невысоко над горизонтом.
Панурин протер пенсне, моргнул глазами.
– Плеяды.
Потом стал всматриваться, как будто мог хорошо их разобрать, и прибавил:
– В этих звездах есть нечто де-евичье. Впрочем, женственное вообще ра-азлито в природе. Женственны молодые деревца, первая весенняя зелень, сумерки в апреле.
Он достал папиросу и закурил. Его удивило, что Катя последнюю минуту сидела с закрытыми глазами и приоткрыла их на свет. Они показались Панурину больше и туманнее обычного.
– Если провести рукой по ва-ашим волосам, то наверно будет потрескиванье.
Катя вздохнула. Он чувствовал в темноте, что теперь она на него смотрит.
– Нет. Не думаю.
Она нагнула голову, взяла его руку и провела по своим волосам.
– Вот видите.
– Вы стра-ашно милая, – невнятно сказал Панурин.
– Милая?
Она хотела что-то прибавить, но не успела: вдруг он обнял ее колени и стал целовать. Хотя было очень темно, она закрыла для чего-то глаза руками. Когда через минуту он поцеловал ее в губы, она дернулась, как обожженная. Она могла бы упасть, но Константин Сергеич поддержал ее.
VХотя дом Панурина был очень велик – особенно для одинокого, все же Константин Сергеич спал не в спальне, а в огромнейшем кабинете, за ширмочкой. Было в этом кабинете все, что угодно: и кожаные диваны, и глобус, и ружья, и микроскоп, и шкафы с книгами; были книги серьезные, валялись и уличные журнальчики, даже выкройки мод. На камине лежал ржавый меч. Это все скопилось потому, что многие здесь жили до Панурина. Следы остались от разных хозяев, а Константин Сергеич по небрежности ничего не менял.