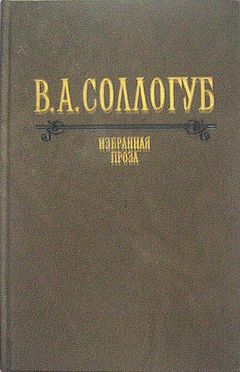Николай Помяловский - Молотов
— Органический порок, милый человек! — повторил Череванин.
Молотов чем более вглядывался в окружающую обстановку, тем в большей дикости и нелепости она представлялась ему. Он с изумлением заметил в компании двух молодых людей, одного — сына Рогожникова, а другого — Касимова.
«Эти как попали сюда? — подумал он. — Что их гонит из дому? разве там не спокойно, не мило, нет жизни и свободы? Недостаток эстетического чувства, грубость и одичалость характера заставляют человека не любить ровную, тихую, полную глубокого смысла семейную жизнь».
— Не стыдно тебе, — сказал он Михаилу Михайлычу, — ведь ты губишь молодой народ...
— Без меня хороши! Ты лучше посмотри да послушай, что здесь за народ, — это занимательно и поучительно. Отличные этюды встречаются. Тут собрались дивные ребята, все любят отечество, искусство, науку и водку, — больше ничего не любят!.. Пейте, господа! — крикнул Череванин как-то вяло.
— Следует, — ответили ему.
— Хоть бы ты вымылся, — сказал ему кто-то.
— Медведь не моется, да все его боятся, — отвечал художник.
Пошло страшное попоище; начались песни, хохот, остроты, пойло пенное, пойло пуншевое, пойло пивное.
— Что ты делаешь?
— Всё пустяки в сравнении с вечностью!.. Как что делаешь? Мы вопросы современные решаем... Слушай, вон в углу кричит: ты думаешь, тут что-нибудь спроста? Нет, это он о Суэзском перешейке валяет! — не слышно что, да и так можно догадаться, что околесную несет. Прислушайся теперь к речам в другом углу — там решают влияние французского кабинета на дела Азии. А посмотри-ко на того парня, который соскочил с дивана, точно его по шее треснули. О, бедняга, как он худощав и бесконечно длинен, поднял костлявые руки, кричит, вопит и распинается, а за что?
— Гегель и прогресс!.. Гегель и прогресс! — кричал длинный господин.
— Это всё любители просвещения, жрецы, братец ты мой.
— Черт знает как скучно дома! — говорил Касимов. — Что за пошлая, телячья жизнь! Ни о чем не услышишь живого слова, бог знает о чем толкуют с утра до вечера, просто невыносимо!.. А какая чистота нравов! Знаете ли, что у меня есть тетушка сорока пяти лет, которой группы, выставленные на Аничкинском мосту, кажутся безнравственными? Она не может смотреть на тело человека, ей совестно. В сорок-то пять лет ее соблазняет болван-композиция!..
Молотов не мог не улыбнуться.
— Выпьем еще! — слышно в углу.
— Выпьем!
— Поцелуемся, дружище!
— Поцелуемся!
— Тебе, что ли, ходить? — говорит один из играющих в шашки.
— Сходим, сходим!
— Кто, господа, идет со мной «в ту страну, где апельсин растет»?
— Подожди, еще рано...
— Так песню, господа!
И затягивают «Вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью». После этой песни следовала патриотическая, известная всем молодым людям столицы. Поднялся шум, и грохот, и ярые возгласы.
— Россия на ложной дороге! — кричал какой-то политик.
— Вы с Англии пример берите, — перебил его другой голос...
— Нет, в Германию, в страну философии, — начал было гегелист...
— Пошел ты к черту! — перебили его другие. — В Германию, страну колбасников? Да им все морды побить надо! Германия — огромная портерная в Европе...
— А Россия — кабак.
— Да ты сам пьян!
— Что ж из этого?
— А если хочешь быть последователен, убирайся к черту с Гегелем!
— Нет, вся наша надежда на мужика, на простолюдина. Освободите мужика, он пойдет шагать!
— А до тех пор что будем делать?
— Ничего!
— Ну, и на здоровье.
— Слова прошу, — закричал офицер с залихватской физиономией, — послушайте слова опытного человека! Молчите и внимайте.
Все стихло.
— Я предлагаю, господа, устроить сейчас же общими силами скандалиссимус!
— Какой, какой?
— Переломать кости первому встречному.
— Да за что же?
— Здорово живешь!
Скандалиссимус был отвергнут большинством голосов.
Молотов с изумлением смотрел на окружающие его лица и слушал их ярые речи.
— Что это у тебя творится? — спросил он Михаила Михайлыча.
— Будто не понимаешь?
— Ничего не понимаю.
— Здесь совершается великая тайна акклиматизации европейского прогресса, включительно до скандалиссимуса... Я тебе говорил, что мы решаем современные вопросы. Мы не аскеты, не люди старого закала; здесь нет ни одного человека, который бы из прогресса создал пугало нравственное и открещивался бы от него, как от сатаны. Здесь процветают широкие нравы.
— Что же будет с этими людьми после, когда пройдет время разгула, перегорит человек, переломаются его кости и испортится кровь?
— Вон ты куда хватил!
— Ведь потянет же их когда-нибудь из этого бешеного круга, жизнь заставит взглянуть на себя серьезнее, — что тогда будет с их убеждениями?
— С какими?
— Да вот которые они проповедуют.
— Это разве убеждения?
— Что же?
— Просто дурь на себя напустили. Горло драть хочется, ну и дерут. Им бы только посуетиться, побыть в массе, покричать, а покажи только розгу, так сейчас: «Ай, маменька, не буду!» Предложи любому чин регистратора, сейчас и убеждения побоку, и еще будет потом говорить, что его пошлая действительность задавила, среда заела, — а какая среда? натуришка гнилая! Идеалы их книжные, и поверх натуры идеалы плавают, как масло на воде. Ничего не выйдет из них. Квасные либералы... Хотя бы пару мужиков научили грамоте, а то даже и говорить-то не умеют, убедить никого не могут... Пей, ребята! — крикнул Череванин.
Молотов пожал плечами.
— Зачем же ты собираешь их около себя?
— Разве не видишь, что веселенький пейзажик выходит? Надо же чем-нибудь утешать себя.
Молотов опять пожал плечами.
— Михаил Михайлыч, — сказал Касимов, подходя к нему. — А, Егор Иваныч, — сказал он, — извините, я вас и не заметил в дыму.
Поздоровались.
— Что вам угодно? — спросил Череванин.
— Я хочу идти в художники...
— Так что же?
— Как посоветуете?
— Ступайте.
— Ей-богу, ничего не может быть лучше жизни художника: свобода, вино, женщины и друзья!
— И картины... — прибавил Череванин.
— Только не знаю, есть ли у меня талант.
— Все же будете принадлежать к числу художников, и у вас будет свобода, вино, женщины и друзья...
Касимова отозвали пирующие.
— Веришь ли, что я из этого господина могу сделать хоть сейчас краскотера? И все они таковы: это люди подражательные, юноши без всякого содержания. Он как родился не потому, что хотел того, а пожелали мамаша с папашей, так и все потом делал, потому что люди это делают. Между тем Касимов умеет острить, как ты слышал, но всегда впадает в чужой тон; вообще он неглуп, у него есть ум, но не свой. Смолоду такие люди всегда подают надежды. У них ничего нет за душой, кроме впечатлительности. Поживши с угрюмым человеком, Касимов совсем отвык от улыбки; с рыцарями — он рыцарь, с франтами — франт, среди ученых корчит глубокомысленную рожу. Однажды он вздумал идти в монахи, потому что наслушался какого-то старика о развращении рода человеческого; а через месяц он уже был отчаянным франтом. Заклятый ненавистник брака, пока холост, а женится — попадет под башмак жены. Человек с небольшим характером и какой-нибудь оригинальной выправкой может заставить их сапоги себе чистить. Противно смотреть на них, так они льнут в глаза и точно в губы поцеловать хотят. Словом, народ сопливый. Он всегда находится под влиянием последней прочитанной статейки. Сегодня он кричит: «Индейцы англичан раскатали»; завтра: «Гумбольд умер»; послезавтра: «Прочитайте «Манон Леско», очень развратная книжка», — и нигде ничего не понимает, всегда с чужого голоса поет. Когда пошла обличительная литература, тогда он с благоговейным страхом говорил: «Вот отчаянные-то головы!.. что пишут!.. и не боятся!» Попавшись за увлечения впросак, он вдруг хвост опускает, робеет и, не зная, что делать, иногда плачет и богу молится, не понимая, что ж это за напасть на него. Когда же их поймают в минуту растерянности и станут стыдить, то они без зазрения совести умеют напустить на себя рысь дурака: «Эх, господа, полно смеяться, я сам знаю, что я глуп; что ж делать, если бог ума не дал», — и врет, каналья: он вовсе не глуп, а просто не хочет шевельнуть мозгами, разобраться, наконец, во что он верит и не верит. Вот я и потешаюсь. Надоедят, запру двери, и делу конец.
— И тебе не жалко их?
— А тебе жалко? Мне смешно, но это одно и то же: одинаково оскорбительно для человека. Жаль, нет здесь одного господина, который пописывает статейки. Вот забавник-то! «Как это вы пишете обличительные очерки?» — спросил я его однажды, и что же? — он сознался: «Откроешь, говорит, Свод законов, прочитаешь статьи, нарушишь их и припишешь это какому-нибудь чиновнику... при этом обстановочка маленькая, современный дух... ну, и ничего, платят за это деньги, все же на табак годится». Смешно ли это или жалко, я разности большой в том и другом случае не вижу.