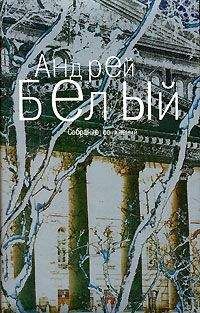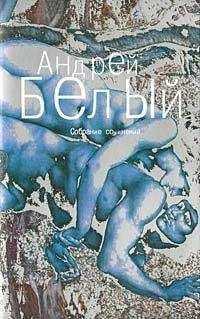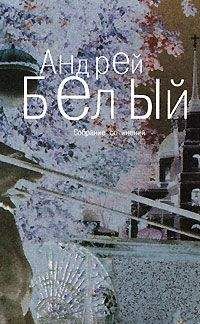Андрей Белый - Том 2. Петербург
Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных морд; каждая висла над гербом, оплетенным гирляндою.
Так проговорили они всю дорогу.
И вот уже — Мойка: то же светлое, трехэтажное пятиколонное здание александровской эпохи; и та же все полоса орнаментной лепки над вторым этажом: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах. Они миновали уж здание; вон за зданием — дом; и вон — окна… Офицер остановился у дома и отчего-то вдруг вспыхнул; и вспыхнув, сказал:
— «Ну, прощайте… вам дальше?..»
Сердце Николая Аполлоновича усиленно застучало; что-то спросить собирался он; и — нет: не спросил; он теперь стоял одиноко перед захлопнутой дверью; воспоминанья о неудачной любви, верней — чувственного влечения, — воспоминания эти охватили его; и сильнее забились синеватые, височные жилки; он теперь обдумывал свою месть: надругательство над чувствами его оскорбившей особы, проживающей в этом подъезде; он обдумывал свою месть вот уж около месяца; и — пока об этом ни слова!
То же светлое, пятиколонное здание с полосою орнаментной лепки: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок; здесь, здесь и здесь вспыхнут вдруг рубины огней; вспыхнут там — изумруды. Мгновение: там — рубины; изумруды же — здесь, здесь и здесь.
Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым светом стены многих домов: ярко искрятся из алмазов сложенные слова: «Кофейня», «Фарс», «Бриллианты Тэта», «Часы Омега». Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, разевает на Невский витрина свою огненную пасть; всюду десятки, сотни адских огненных пастей: эти пасти мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет; мутную мокроту изрыгают они огневою ржавчиной. И огнем изгрызан проспект. Белый блеск падает на котелки, на цилиндры, на перья; белый блеск ринется далее, к середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту: а вечерняя мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую желтовато-кровавую муть, смешанную из крови и грязи. Так из финских болот город тебе покажет место своей безумной оседлости красным, красным пятном: и пятно то беззвучно издали зрится на темноцветной на ночи. Странствуя вдоль необъятной родины нашей, издали ты увидишь красной крови пятно, вставшее в темноцветную ночь; ты испуганно скажешь: «Не есть ли там местонахождение гееннского пекла?» Скажешь, — и вдаль поплетешься: ты гееннское место постараешься обойти.
Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко-кровавый, издали тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы в белесоватую, не вовсе чистую светлость, многоогневыми обстал бы домами, — и только: наконец распался бы на многое множество огоньков.
Никакой Геенны и не было б.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Николай Аполлонович Невского не видал, в глазах его был тот же все домик: окна, тени за окнами; за окнами, может быть, веселые голоса: желтого кирасира, барона Оммау-Оммергау; синего кирасира, графа Авена и ее — ее голос… Вот, сидит Сергей Сергеич, офицер, и вставляет, быть может, в веселые шутки:
— «А я шел сейчас с Николаем Аполлоновичем Аблеуховым…»
Аполлон Аполлонович вспомнилДа, Аполлон Аполлонович вспомнил: недавно услышал он про себя одну беззлобную шутку. Говорили чиновники:
— «Наш Нетопырь (прозвище Аполлона Аполлоновича в Учреждении), пожимая руки просителям, поступает совсем не по типу чиновников Гоголя; пожимая руки просителям, не берет гаммы рукопожатий от совершенного презрения, чрез невнимание, к непрезрению вовсе: от коллежского регистратора к статскому…»
И на это заметили:
— «Он берет всего одну ноту: презрения…»
Тут вмешались заступники:
— «Господа, оставьте пожалуйста: это — от геморроя…»
И все согласились.
Дверь распахнулась: вошел Аполлон Аполлонович. Шутка испуганно оборвалась (так юркий мышонок влетает стремительно в щелку, едва войдете вы в комнату). Но Аполлон Аполлонович не обижался на шутки; да и, кроме того, тут была доля истины: геморроем страдал он.
Аполлон Аполлонович подошел к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.
И головки там в окнах пропали.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Здесь, в кабинете высокого Учреждения, Аполлон Аполлонович воистину вырастал в некий центр: в серию государственных учреждений, кабинетов и зеленых столов (только более скромно обставленных). Здесь он являлся силовой излучающей точкою, пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонович был силой в ньютоновском смысле; а сила в ньютоновском смысле, как, верно, неведомо вам, есть оккультная сила.
Здесь был он последней инстанцией — донесений, прошений и телеграмм.
Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе: к заключенному в себе центру — к сознанию.
Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно, концентрируясь со столь большой силой в единственной точке (меж глазами и лбом), что казалось, невидимый, беленький огонек, вспыхнувши между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы змеевидных молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы; и если бы ясновидящий стал в ту минуту пред лицом почтенного мужа, без сомнения пред собой он увидел бы голову Горгоны медузы.
И медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлонович.
Здесь сознание отделялось от доблестной личности: личность же с пучиною всевозможных волнений (сего побочного следствия существованья души) представлялась сенатору как черепная коробка, как пустой, в данную минуту опорожненный, футляр.
В Учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства: из воссиявшего центра (меж глазами и лбом) вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он, вот из этого кресла, сознанием пересекал свою жизнь, постольку же его циркуляры, из этого места, секли в прямолинейном течении чресполосицу обывательской жизни.
Эту жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал с половой, растительной или всякой иною потребностью (например, с потребностью в скорой езде по петербургским проспектам).
Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился вдруг обывателем.
Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение (с нетопырем). Эти недруги были — все до единого — обыватели; этим недругом за стенами был он себе сам.
Аполлон Аполлонович был сегодня особенно четок: на доклад не кивнула ни разу его голая голова; Аполлон Аполлонович боялся выказать слабость: при исправлении служебных обязанностей!.. Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно: бог весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонович, — отъявленный негодяй.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона. Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда: каменного бородача.
Как Аполлон Аполлонович, каменный бородач приподымался над уличным шумом и над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним толпами; проходила толпа и теперь — в девятьсот пятом году. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события: Анна Петровна — в Испании; Вячеслава Константиновича — нет; желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур.
Собираяся выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович улыбался; улыбка же происходила от робости: что-то ждет его за дверьми.
Аполлон Аполлонович проводил свою жизнь меж двумя письменными столами: между столом кабинета и столом Учреждения. Третьим излюбленным местом была сенаторская карета.
И вот: он — робел.
А уж дверь отворилась; секретарь, молодой человек, с либерально как-то на шейном крахмале бьющимся орденком подлетел к высокой особе, почтительно щелкнувши перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлонович:
— «Нет, нет!.. Сделайте, как я говорил… И знаешь ли», — сказал Аполлон Аполлонович, остановился, поправился:
— «Ти ли…»
Он хотел сказать «знаете ли», но вышло: «знаешь ли… ти ли…»
О его рассеянности ходили легенды; однажды Аполлон Аполлонович явился на высокий прием, представьте, — без галстуха; остановленный дворцовым лакеем, он пришел в величайшее смущение, из которого его вывел лакей, предложивши у него заимствовать галстух.