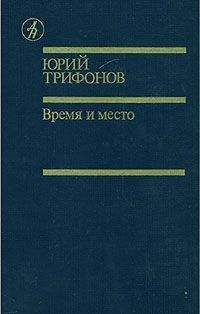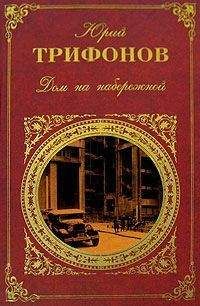Юрий Трифонов - Записки соседа
Александр Трифонович подробно прошелся по всему тексту. Замечания его были точные, четкие. Ни одно не вызвало возражений, все шли на улучшение, уточнение рассказа. Он, например, подчеркнул везде слово "карниз" и заменил его словом "отлив". Предложил убрать несколько фраз в сцене ареста Бориса Евгеньевича, отчего все стало выразительней и сильнее.
- Хорошо он у вас говорит: "Разве вы не знаете, я же вчера человека убил?"
Я признался, что эту фразу не придумал, она из жизни. Мне рассказывала вдова Виктора Кина Цецилия Исааковна Кин, что, когда Кина уводили ночью из дома в тридцать седьмом году, няня их сына воскликнула: "Виктор Павлович, да за что же?" Кин ей ответил: "Разве ты не знаешь, Федора, я же вчера человека убил".
Александр Трифонович помолчал супясь. Все было ведомо, слышано много раз, передумано с болью, и каждый раз боль снова. Он покачал головой.
- Эта фраза, я думаю, не пострадает, а вот во что вцепятся: полковник в отставке. Он у вас довольно зло... Вцепятся непременно.
- Убрать, вы думаете?
- Убирать пока погодим. Но вы увидите, они его не пропустят.
Речь шла о члене домкома Брыкине. Я писал сей персонаж почти с натуры. Концовка рассказа тревожила Александра Трифоновича меньше, чем этот Брыкин, он лишь посоветовал снять в конце фразу о смерти Сталина, обозначавшую перелом времени. Фразу я снял. Внимательный читатель поймет, о каком времени говорится.
Оба рассказа были пропущены без замечаний, однако "Голубиная гибель" только в "Новом мире" прошла в первоначальной редакции. В двух сборниках моих рассказов, вышедших в "Советской России" и в Гослитиздате, рассказ опубликован в изувеченном виде: сцена ареста изъята и вся тема "голубиной" гибели этой семьи отсутствует. Теперь это просто сентименталь-ный рассказ.
"Новый мир" в это время подвергался все более ожесточенным нападкам, номера с трудом продирались через цензуру и выходили с опозданием иногда на два, на три месяца. Все, что печаталось в журнале Твардовского, официальная критика рассматривала в лупу. За всем виделись злоумышления, второй план. Именно теперь модным, у всех на устах сделался литературоведческий термин "аллюзия", известный прежде лишь профессорам. ("Аллюзия" от латинского allusio - шутка, намек).
Январский номер с двумя рассказами вышел лишь в марте. Весной я написал рассказ "В грибную осень", отдал Асе Берзер. Ко мнению Аси я прислушивался более, чем ко мнению любого другого сотрудника журнала - за исключением, разумеется, Александра Трифоновича. Вообще роль Анны Самойловны Берзер в становлении новомирской прозы очень велика, гораздо выше той скромной должности - помощницы Дороша, - которую она занимала. Фанатическая преданность литературе, огромная работоспособность, тонкий, болезненный ко всякой фальши вкус и умение ненавязчиво, великодушно и вместе с тем твердо отстаивать свои взгляды - эти качества Анны Самойловны как редактора и собирателя прозы были, конечно, неоценимо полезны журналу. К ней тянулись молодые писатели. Она умела разглядеть, угадать, почувствовать талант, умела и без колебаний, невзирая на маститость и положение, отвергнуть слабую рукопись. Для будущих исследователей тринадцатилетней истории "Нового мира" явится задачей - определить КПД деятельности Анны Самойловны в журнале. И можно сказать с уверенностью: он высок. При тех отношениях, какие у меня сложились с Александром Трифоновичем, я мог бы отдавать рукописи прямо ему он даже предлагал это, когда бывал в добром расположении духа, - но я проявлял осмотрительность и отдавал в отдел. (Так было и со следующей вещью, повестью "Обмен".) Кроме всех прочих соображений для меня было важно и существенно мнение Аси Берзер.
Прочитав рассказ "В грибную осень", Ася сказала: "Очень сильно!" Я ликовал, не показывая вида. Ася сказала, что будет предлагать рассказ в какой-то из летних номеров, седьмой или восьмой. Все шло поразительно удачно: как что ни принесу, все идет с хода! Рассказ вышел в августовском номере. Этот номер был сдан в набор тридцатого мая, а подписан к печати девятнадцатого октября. Подписчики получили его в ноябре.
Вот так обстояло теперь дело с "Новым миром". Шли разговоры о том, что журнал разгоняют, Твардовского снимают. Этим слухам верили и не верили. Да, номера выходили с трудом, каждый рождался в муках, приходилось пробивать, отстаивать, спорить с чиновниками, и все же номера выходили, дело двигалось. Тут была какая-то странность. В печати, на собраниях журнал честили почем зря, обвиняли чуть ли ни в антисоветчине - особенно кидались на "Новый мир" те, кому досталось от отдела критики, армия этих оскорбленных с каждым годом росла и злобнела, - но почему-то оргвыводы не делались; изъятие Дементьева и Закса из редколлегии не изменило, разумеется, ничего. Ибо два литератора мало что решали. Решал Александр Трифонович и решал напор авторов, а оба эти фактора продолжали существовать. И в замороченных мозгах интеллигенции уже зрела такая безумная догадка: "Новый мир" никогда не будет разогнан, ибо он для чего-то нужен.
Летом шестьдесят восьмого я отдыхал на Рижском взморье, каждый вечер слушал новости из Чехословакии. Там происходило нечто громадно важное. Первого августа я вернулся в Москву. Сразу же по приезде на дачу встретил Александра Трифоновича, мы разговаривали долго - не о литературе, а о том, что происходило, о чем тогда разговаривали все, и я давно не видел его таким энергичным, упругим, в каком-то празднично веселом возбуждении.
- Вот видите, не могут они этого сделать! Не могут, не могут! - говорил почти с торжеством. - Кишки не хватает! - и шепотом: - И с нами то же самое: и хочется, и колется, и ...не могут!
Но прошло три недели и оказалось: могут.
Двадцать первого утром я был в Москве и услышал о том, что могут, по радио. На другой день поехал в Пахру, и в тот же вечер или, может, спустя день Александр Трифонович зашел ко мне. Вид его был ужасен. Он был то, что называется убит. Взгляд померкший, разговаривал еле слышным шепотом.
- Конец... Все кончилось...
Мы сидели на веранде за большим пустым столом. Он ничего не хотел. Палку, с которой ходил обычно, поставил между ног, опирался на нее двумя руками тяжело, бессильно. Вдруг заговорил со мною на "ты":
- Хорошо, что у тебя тут дача... Вот и живи тут, копайся в саду... Правильно сделал, что купил...
Он говорил так, и состояние его было таково, будто все уже произошло, он изгнан, журнал уничтожен. Однако он ошибался, как многие. Дали отсрочку еще года на полтора.
И прошло отчаяние, как все проходит, опять были заботы о номере, пробивание, борьба, надежды, радость...
Зимою мы виделись редко, а в начале лета следующего, шестьдесят девятого года, когда я переехал на Пахру прочно, решив там жить все лето и работать, - я писал тогда повесть "Обмен", - мы виделись с Александром Трифоновичем чуть ли не каждый день.
Стоял свежий теплый июнь.
Каждое утро мы ходили с Александром Трифоновичем купаться на речку. Мне было неловко заходить за ним - боялся быть навязчивым, - а он по дороге от своей дачи на речку заворачивал на мой участок, благо калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде и говорил громко: "К барьеру!" Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем, и мы шли по шоссе, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нам в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссоветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба крутой тропинкой к рощице ивняка, и вот уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы располагались на нашем месте.
Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тинисто и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода на всей реке. Потому что ключи; местами даже стынью обдает, плывешь, плывешь и - холодом по ногам.
Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватаясь за склоненный низко над водой - будто по заказу - не толстый, но и не тоненький, пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали могутностью. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за ствол, с силой отталкивался и долго медленно плавал.