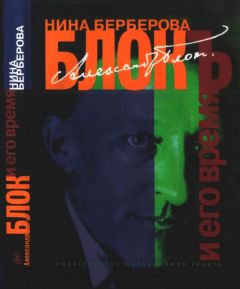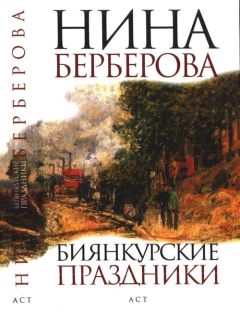Нина Берберова - Курсив мой (Часть 5-7)
Снотворное давали то в 11 часов утра, то в 3 часа дня, но денег не было, чтобы лечь в частную клинику, и он лежал там и терпел, расчесывая до крови свое желтое, худое тело, иногда теряя сознание от слабости и боли. Две недели исследовали его: снимали рентгеном, делали всевозможные анализы, заставляли пить то молоко, то холодную воду отчего опять усилились его боли, - и нельзя было понять, где именно у него болит, потому что он показывал то "под ложечку", то на левый бок, то на живот.
Жесткая койка; с трудом выпрошенная вторая подушка; госпитальное белье и суровое "тюремное" одеяло, а на дворе - жаркие июньские дни, которые так и ломятся в комнату. Он говорил:
Сегодня ночью я ненавидел всех. Все мне были чужие. Кто здесь, на этой койке, не пролежал, как я, эти ночи, как я, не спал, мучился, пережил эти часы, тот мне никто, тот мне чужой. Только тот мне брат, кто, как я, прошел эту каторгу.
Ему было уже все равно, что делалось на свете. Интерес ко всему начал в нем угасать. Оставалась только ирония, меткое слово, но вид его был так печален и страшен, что невозможно было улыбаться его шуткам.
Желчь все не проходила, силы слабели с ужасающей быстротой. Он еще иногда вставал, даже ходил самостоятельно, но уставал от движений.
К концу второй недели выяснилось, что нет ни опухоли, ни камней в печени. Поэтому надо было отбросить мысль о закупорке желчных путей. Рак поджелудочной железы не просвечива-ется и не прощупывается (как сказали доктора), поэтому и Абрами (как и Левей) склонился к раку. Было решено его оперировать. Для чего? Чтобы убедиться и, вероятно, ускорить его конец. В случае, если бы это все же оказалась закупорка, операция, как говорили, спасла бы его.
Измученный пыткой освидетельствования и госпитальной жизни, он в четверг, 8 июня, вернулся к себе домой, еще более темный, еще более худой, обросший полуседыми космами; под глазами его было черно; живот его был обожжен грелками; на ногах и руках были царапины (от чесотки) и синяки (неизвестного происхождения). Он не лежал и не сидел. Он метался в страшной тоске, не имея возможности заснуть; то страдая болями, то страдая от мысли, что они могут возобновиться. Он обрадовался моему приходу, сказал, что операция назначена на вторник и что уже лучше скорее. Он не думал, что это будет смерть, он не верил в выздоровле-ние - он сам не знал, что думать, от него оставалась теперь одна тень.
Минутами он ложился навзничь и молча смотрел перед собой темно-желтыми, зеленоватыми глазами. Внутри что-то мучило его, и он был на краю слез. Н.В.М. и Оля вышли в столовую. Я осталась с ним. Это было в пятницу, 9 июня, в 2 часа дня. Я знала (и он знал), что до операции его уже не увижу.
- Быть где-то, - сказал он, заливаясь слезами, - и ничего не знать о тебе!
Я что-то хотела сказать ему, утешить его, но он продолжал:
- Я знаю, я только помеха в твоей жизни... Но быть где-то, в таком месте, где я ничего никогда не буду уже знать о тебе... Только о тебе... Только о тебе... только тебя люблю... Все время о тебе, днем и ночью об одной тебе... Ты же знаешь сама... Как я буду без тебя?.. Где я буду?.. Ну, все равно. Только ты будь счастлива и здорова, езди медленно (на автомобиле). Теперь прощай.
Я подошла к нему. Он стал крестить мое лицо и руки, я целовала его сморщенный желтый лоб, он целовал мои руки, заливая их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые, острые плечи.
- Прощай, прощай, - говорил он, - будь счастлива. Господь тебя сохранит.
Я вышла в столовую. Потом я опять вошла к нему. Он сидел на постели, уронив голову в руки.
В воскресенье, 11 июня, Н.В.М. навестил его и узнал, что его будут оперировать не в городском госпитале Бруссе, а в частной клинике на улице Юниверсите. Это устроила его сестра. В понедельник его перевезли туда, и в 3 часа во вторник, 13-го, оперировали.
Мне вспоминается, как последние сутки еще в госпитале он лежал уже не в стеклянной клетке, а в комнате, рассчитанной на двоих. С ним лежал молодой еврей, торговец подтяжками на Монпарнасе, с трудом говоривший по-русски.
Он чувствовал к соседу огромную жалость, все плакал над тем, что ему будут резать желудок (у того была язва). Ночью они поговорили друг с другом, и вдруг Ходасевичу стало нехорошо. Он отвернулся и затих. И вдруг слышит, как кто-то в ухо ему шепчет:
- Керенский в аду?
Он решил, что это галлюцинация. Однако шепот повторился.
- Керенский в аду?
Ходасевич обернулся с усилием и увидел своего соседа, нагнувшегося к нему. Он спрашивал:
- Кельнской воду?
Он так называл одеколон.
Галлюцинации у него бывали главным образом от не вовремя впрыснутого морфия. В ногах долго однажды сидел у него священник (приходивший в госпиталь "утешать одиноких"). Вообще же "навещатели" ужасно бесили его, он умолял их уйти, говорил, что он не одинок, что ему не нужны чужие люди. Но некоторые из них все-таки не уходили, заводили литературные разговоры, утомляли его.
Ему денежно помогали многие из его добрых друзей; некоторые пересылали деньги через так называемый "комитет" для него, некоторые приходили к нему и просто ему давали. Больше всех сделала для него его сестра. К сожалению, все было уже поздно.
- Если операция не удастся, - сказал он в последнюю пятницу, - то это будет тоже отдых.
А в воскресенье он говорил с Н.В.М. о том, что не перенесет ее, и они благословили друг друга.
В понедельник утром его перевезли в клинику. Прошли ужасные, мучительные сутки. "Скорее бы!" - говорил он. Начались подготовления к операции. В 3 часа пришел хирург (Боссе). Его понесли, с трудом захлороформировали.
Операция продолжалась полтора часа. Боссе, вышедший после нее, дрожащий и потный, сказал, что для него несомненно, что был рак, но что он не успел до него добраться: чистил от гноя, крови и камней желчные проходы. Он сказал, что жить ему осталось не более двадцати четырех часов и что страдать он больше не будет. Тут же он дал Оле два извлеченных камня (которых рентген не показал!). Н.В.М. вызвал меня в Париж, и в 7 часов вечера я вошла в палату, где он лежал.
Он был тепло укрыт. Глаза его не были плотно сомкнуты. Пульс был очень слаб. Ему сделали переливание крови, отчего пульс стал на полчаса лучше. Медсестра не отходила от его кровати. Совершенно обезумевшая Оля стояла тут же.
Раза два он повел бровями. Медсестра сказала: надо, чтобы он не страдал. В девятом часу мы ушли. Какое-то равнодушие нашло на меня. Мы ночевали в отеле.
В 7.30 утра мы были уже в клинике (14 июня). Он умер в 6 часов утра, не придя в сознание. Перед смертью он все протягивал правую руку куда-то ("и затрепещет в ней цветок"), стонал, и было ясно, что у него видения. Внезапно Оля окликнула его. Он открыл глаза и слегка улыбнулся ей. Через несколько минут все было кончено.
Когда я вошла, он был еще теплый. Лицо его странно и сразу изменилось. Нос заострился. Челюсть была подвязана. Мы пробыли часа два. Приехал В.В.Вейдле с католическим священни-ком восточного обряда. Потом, после панихиды, я ушла: в похоронное бюро, в полицейский участок, в "Последние новости" дать объявление.
Он лежал весь следующий день уже внизу, в часовне клиники, очень худой, с крошечным лицом, ледяной, с запавшими глазами. В 5 часов была панихида. Было человек пятнадцать - только самых близких (сестра его не была, она вообще не видела его мертвым). Вечером Оля и я отстригли по пряди его волос. От них пахло одеколоном.
Были цветы и свечи, все, чему полагается быть. Но для него мне хотелось одного: покоя. Он так долго страдал, что я только мечтала, когда он "отойдет в землю", чтобы его уже больше не мучили. Госпиталь Бруссе его доконал. Хирург говорил после, что его надо было оперировать десять лет тому назад, но его всю жизнь лечили от кишечника и никто никогда не говорил о печени.
Вечером 15-го его положили в гроб. Ему в руки Оля дала мою крестильную иконку Казанской Божьей матери, которая последние годы висела над его постелью. На лбу его был бумажный венчик. Утром 16-го фургон вывез его из подвала клиники и к 1 ч. 45 м. доставил в русскую католическую церковь на улице Франсуа-Жерар (№ 39), где было несколько сот человек и где его час отпевали.
В 2 ч. 45 м. отпевание было закончено. Мы ждали, чтобы выйти следом за гробом. Служащие бюро вынесли букеты и венки (Н.В.М. привез огромный букет полевых цветов из Лонгшена), а затем взялись за гроб. Мы пошли за ним. Я вела Олю под руку. На улице было много народу. В наш автомобиль сели Евг. Фел. (его сестра), ее муж, Н.В.М; и Оля. Я почему-то пошла со знакомым (Никулиным - брат советского писателя Льва Никулина), и он повез меня. Следом за фургоном, где везли гроб (и впереди сидел священник), увешанный венками, неслись автомобили. У моста Мирабо (был ослепительный летний день) мне показалось, что было что-то даже "облегчительное" в этой поездке семи или восьми автомобилей, мчавшихся куда-то. У кладбищенских ворот было уже довольно много народу.
Самое тягостное было идти за гробом. Священник шел чуть сбоку. Евг. Фел. шла за колесницей, по бокам - мы с Олей. Мне показался путь от ворот к могиле бесконечным.