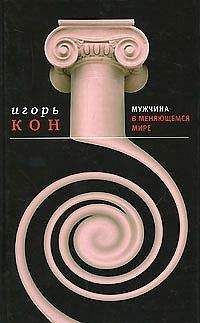Михаил Осоргин - Времена
И все-таки он оказался пророком, пьяный и опустившийся человек, доведший нас от буквы "ять" до Стефана Яворского** и передавший другому, с которым мы доползли до Собакевича. Я не сержусь на них, ничего нам не давших: мы сумели пойти своей дорогой и уже читали Белинс-кого, когда крестик в учебнике словесности еще не запятнал страниц, посвященных Ломоносову. Мы лениво слушали то, что нам говорили, и легко угадывали все, что замалчивалось. Не сделавшись лесничим, я остался сыном северных лесов, полжизни прожившим в кислоте среднеевропейской и южной природы, но не изменившим очарованьям детства. Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности - русской природы,- в тех пределах, в каких мне этот язык доступен.
И эти строки случайных и беглых воспоминаний - только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и снова возвращается на этой земле. Теням предков и неслышному зову друзей.
* Ять - одна из четырех букв русского алфавита, изъятая из употребления согласно Декрету от 10 октября 1918 г. "для упрощения орфографии". Многие выдающиеся литераторы того времени выступили против подобной реформы. К. Д. Бальмонт даже написал сонет "Гонимым", где каждой из утраченных букв посвятил прочувствованные слова. В частности, про "ять" там было сказано:
Изменчивого Е расцвет и скрепа,
Лицо в лицо, глядит на честных Ь,
Того лишь варвар не сумел понять.
Осоргин с заметной теплотой вспоминает о былой традиции правописания (см. также с. 537).
** Степан Яворский - русский церковный деятель, публицист (1658-1722). Сочинения Яворского изобилуют метафорами и аллегориями, схоластичны - все это делало их труднодоступными для восприятия последующими поколениями читателей.
ЮНОСТЬ
Я пытаюсь вспомнить о годах своей юности, хотя не очень ясно, что разуметь под этим словом, какой отрезок нашей жизненной дороги. Как это никто не догадался делить жизнь на трехлетия или пятилетия, каждое со своим ярлычком,- не было бы путаницы, и, главное, качества и настроения одного отрезка не позволяли бы себе вторгаться в неподобающую клетку. Как вы смеете, уже спускаясь по склону, уже почти спустившись, уже перед окошечком расчетной кассы, ощущать себя моложе и жизненнее, чем полагается вашей категории? Моя зима все еще бесснежна, а головы тех, кто могли бы быть моими детьми, запорошены снегом. Они пытаются уверить меня, что на долю их поколения выпала тяжкая участь, что их несозревшими подхватил ураган событий, унес и выбросил на чужие берега и что это так рано сделало их стариками. Я верю им, сочувствую им, жалею их, хотя мое поколение пережило вдвое больше и в тысячу раз тяжелее. И я утешаю: молодость может вернуться, ведь это не возраст, а мироощущение! В жизни, духовно богатой, переживается несколько возвратов, и невозвратимо только детство,- но ведь не хотите же вы прыгать козлятами? И обратно: бывают люди без юности; их поезд минует эту таинственную станцию зарождения самостоятельной мысли и страстного наката неразрешимых вопросов. Пожалуй, в нынешней спешке прямые поезда удобнее и экономнее. Спешили и мы, но тогда еще не гнались за рекордами скорости и техника была невысока.
Младенчество, ребячество, детство, отрочество, юность, молодость, возмужалость, взрослость, зрелость, возраст средний, почтенный, преклонный, старость, дряхлость - что еще? Какое множество верстовых столбов! Подъем сложнее склона и богаче оттенками, и труднее всего, кажется, определить, где начинается и где кончается юность. Часов в десять утра я проходил аллеей городского сада - в день праздничный, свободный от гимназических уроков,- сад был пуст, только что подметен сторожами, освещен косыми лучами солнца, приятен, свеж, голосист птичьими напевами. На повороте в боковую аллейку меня остановила волна воздушной мысли - накат неожиданного, показавшегося великим открытием: цель жизни есть сама жизнь! Это могло явиться в долгом ходе скрытых и путаных размышлений, но не могло свалиться с ветки липы случайным подарком. Я читал русских и иностранных классиков ни один из них не дал мне этой простой формулы, хотя мог незаметно к ней подвести. С полнотой переживались драмы, помнились прекрасные ответы и умные слова, но детство, еще вчерашнее, не ставило ясного вопроса о цели и смысле человеческой жизни. Его выдвинуло утро и очаровало самостоятельностью, ниоткудностью моего открытия: цель жизни в самом ходе жизни, в движении, а не в какой-то последней точке. И я не знал, что из учебников философии, мне еще незнакомых, ласково кивают старики разных веков и поколений, домыслившие то, что юноше шепчет утренний ветерок. Я был поражен и взволнован: как это замечательно! Детство осталось за плечами наступила юность. Дома не заметили, что вернулся уже не тот мальчик, который вышел в курточке сурового полотна, подвязанный ременным поясом: явился новый юноша, предчувственник будущего, обладатель тайны, которая ляжет в основу строительства жизни. На мелком и быстром теченье ручейка блеснули зернышки золота, потом опять набежал песок,- все равно: я уже видел малый свет, который дается новопосвященным.
Я не о себе пишу - какой смысл писать о себе! Я хотел бы даже писать не о мальчике из северных лесов, будущем землепроходце. Если бы я не боялся аудитории (или - не жалел ее), я писал бы даже не о маленьком человеке, а вообще о существе, вступающем в жизнь. В живой природе есть существа без юности - и с длительной, непонятной для нас юностью. Есть отряды крылатых, которые, едва освободившись из кокона, уже делаются совершенными взрослыми особями - и летят скорее полюбить и погибнуть. Есть мушки, самцы которых подстерегают самок у выхода из небытия в бытие и, помогая им разорвать кокон, не оставляют им ни мгновенья девичьей жизни,- а после кладки яиц уже стережет смерть. Есть мотыли, детство и юность которых длится семнадцать лет в земле в форме личинки, а жизнь взрослая, окрыленная, меньше недели. Есть человеческие дети со старой душой, и есть старцы, доносящие до гроба, не расплескав, кубок молодых чувств, испитый до дна и все-таки полный. Став в сторонке, будто бы бесстрастный, а на деле взволнованный и смущенный величием жизни наблюдатель, страстью познания пьяный всебожник, мальчик, впервые попавший в кинематограф,- я, в сочетании чешуйчатых пятнышек, в отливах жучьей брони, в изгибах членистых тел, в зеленом лаке хлорофилла, бутонах, шипах, подземном и надземном всепожирании и всесотрудничестве, в полетах, ползанье, стойком внедрении корнями, завидуя тысячеглазию мухи и антеннам последней букашки,- ищу понять и познать, как это случается, что просыпается семя и разматывается клубок жизни, у каждого свой, но единый в своем бесконечном разнообразии, роднящий меня с бактерией, мокрицей, плесенью, слоном и Шекспиром? О какой говорите вы цели, не зная не только причины, но и причины причин? О каком добре, не имея ни в пространстве, ни на земле, ни в себе самих точки опоры? О какой истине - кроме искомой и ненаходимой? Вглядываясь в эту жизнь со всею пристальностью, доступною хрусталику глаза, я вижу только вечный путь с цветным фейерверком символов, скользящих отметок на замкнутом круге, но я не вижу ни концов, ни начал, и в вихре нагромождающихся гибелей и кажущихся рождений я, к несказанной радости духа, в награду за его пытливость,- не вижу смерти: ее нет! Сейчас я могу изложить это какими-то хоть и сумбурными, но внятными словами; тогда, в первый день моей юности, конечно, не мог - даже самому себе. Но если бы я мог сейчас испытать хоть сотую долю того счастья, какое дала мне тогда зарница непостижимой истины! Тогда она была свободной - сейчас оплетена беспомощной речью.
Мы говорим здесь о юности, о рождении сознания,- я не обещал биографических событий, они нужны мне только для иллюстраций. Но я легко могу их выдумать. Так, например, завязав в узелок мое открытие, первую настоящую драгоценность, уже не детскую игрушку, я отправился с нею по свету на поиски пробирной палатки. Где-нибудь, во дворце, в подвале, в музее или на бирже, должны быть абсолютные знания и абсолютные ценности; мне надо знать, сколько золота в моем куске руды. Я был хорошо воспитанным мальчиком, и, входя в кабинеты мудрецов, я шаркал ножкой и вежливо показывал принесенный образец. Обычно мудрецы осматривали меня с ног до головы, бросая беглый взгляд и на то, что они принимали за игрушку, и, будучи очень заняты, отсылали меня к странице такой-то, строка такая-то общедоступного учебника, где подобное открытие было описано, доказано и опровергнуто, затем вновь подтверждено и оставлено под вопросом до следующего издания. Я пытался лепетать, что важность, собственно, в том, что это я, мальчик, открыл для себя самого и что мне хочется, чтобы вместе со мной порадовались, и тогда они шутливо отсылали меня в столовую, где меня поили чаем со сладкими пирожными. Но как быть? У меня был только один гимназический приятель Володя Ширяев, о котором я дальше расскажу; но Володя, конечно, не авторитет, он тоже едва проснувшийся юноша. Я мог сослаться на отца, никогда не подсказывавшего мне формул, но научившего меня смотреть на облако и думать о воде, которая, испарившись, вернется в родственные ей камские волны. У отца были чины и ордена - может быть, это подействует на не оказывающих мне внимания мудрецов? Прошло много лет, как я ушел из дому со своим свертком. Полмира я, во всяком случае, обошел; с миллионом людей, во всяком случае, перекинулся словами; среди них оказались лишь единицы поэтов, обладавших тайнослухом и тайнозрением, способных созерцать с юношеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые Америки виноградными лозами сыпались прямо в наивно разверстый рот, чтобы сердце трепетало в лад со всей мировой жизнью. Их очень мало, таких людей; остальные проверяют север по компасу, время по карманным часам, нравственность по кодексу обязательных полицейских распоряжений. Их штанишки на помочах, их галстуки завязаны бабочкой, и все, что есть в них отличительного и замечательного, указано в их паспортах. Наученный долгим опытом, я привык не говорить о серьезном серьезно, чтобы не завязить ног в тягучем тексте их логических построений, и трехкопеечными парадоксами снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника. Сверток юности моей остался нетронутым и нетленным,- его не нашли и не отняли даже при обысках. Поэтому мне нетрудно, развязав узелок, ясно увидеть перед собой картины моей юности, не богатой событиями и отнюдь не счастливой. Я не думаю, чтобы я был исключением, и считаю пустой фразой первую строку фашистского гимна: "Giovinezza - primavera di belezza"*. Кто-то придумал и сказал, что юность - счастливейшая пора жизни: попугаи повторили, и понятие вошло аксиомой в наше представление. Юность - переход из богатейшего, цельного детского мира в угрожающую пустоту, которую очень немногим удается оправдать и заполнить не совсем скупыми и досадными образами. Юность - пора болезней роста - и тела, и сознания. Под грудой вопросов бьется и копошится маленький человек, руки которого непомерно длинны, ноги заплетаются, голова не имеет покоя; ломается его голос, и его уже беспокоит пол. Юношеское тело уродливо возраст, по преимуществу обнаруживающий близость нашего родства с обезьяной. Не ребенок и не взрослый, обязанный быть и тем и другим и не быть ни одним из них. Несчастный объект непонимания родителей и покушения педагогов. Сказки оказались вздором, внешний мир перестал стесняться показывать свою грязь; идолы и идольчики, с рекомендательными письмами, настоятельно требуют остановить на них выбор; ни в одном возрасте так не сказывается власть запахов - черемухи, мускуса, гниения. Матери и сестры оказываются женщинами, отцы подозрительны по глупости и рабским привычкам. Внезапно выясняется, что у героев бывает насморк и геморрой, у писате-лей запоры, у богов наследственное тупоумие. И наряду с этими страшными разоблачениями - органическая жажда жизни и тяга к познанию, которое лишь сахарином посыпает бродящую мозговую мякоть и этим сладким обманом несколько притупляет горечь растущего в юноше сознания. Процесс, почти столь же болезненный и мучительный, как рождение,- этот переход из спокойствия небытия в суетливый и, скажем по совести, неубедительно устроенный мир.