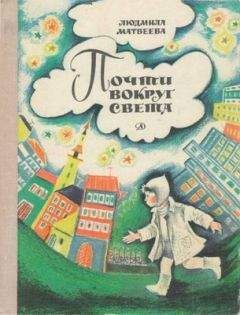Лидия Чуковская - Спуск под воду
Билибин помолчал. Я тоже. Он устал сидеть, лег и вытянулся на постели во всю длину.
- Хорошо, что мне не был известен Алешин адрес, - сказала я. - "Без права переписки". Он не мог выронить мой листок. Его не могла из-за меня загрызть собака.
- Придвиньте ваше кресло сюда, - вдруг попросил Билибин.
Я придвинула. Голова его все глубже уходила в подушки. Я наклонилась. Торопливо и жестко, боясь причинить мне боль и жесткостью одолевая эту боязнь, Билибин объяснил - каким-то даже деловитым голосом - что я неверно представляю себе Алешин конец. Его никуда не везли, ему не угрожали ни теплушки, ни собаки. Все кончилось гораздо раньше. По мнению Николая Александровича, "десять лет без права переписки" это просто условное наименование расстрела. Чтобы не произносить у окошечек слишком часто "расстрелян", "расстрелян" и чтобы в очереди не поднимался плач.
- Всюду не очень-то нам позволяли переписываться, - сказал он. - Но лагерей таких особых - "десять лет без права переписки" - вовсе не было. И приговора такого. За это я вам ручаюсь.
Он опустил веки.
- Так лучше, - сказала я. - Без овчарок. Все равно, там он не выжил бы. Он был очень сильный человек, и смелый, но неприспособленный... к... лесоповалу. Сильный, но слабый.
Билибин молчал.
Не знаю, что видел он, а я видела стену. Алешины последние шаги и солдат, ожидающих команды.
Ночью это было? Днем, при солнце? Где я была в эту минуту? Провожала ли его мыслью?
Только, кажется, сейчас все это делается совсем не так. Это что-то из XIX века: солдаты, стена. Сейчас по другому.
Билибин открыл глаза. Услышав мои мысли, он сказал:
- Это делается внезапно. На переходе. В затылок.
Говоря, он уминал головой подушки. Наверное он чувствовал в эту минуту свой затылок, как и я. Берега подушки расступились и теперь лицо его лежало в глубине.
- Вот и все, - сказал он. - Все.
- Спасибо вам, что не пощадили себя и меня.
- Вы не плачете?
- Нет. Если вы... и другие люди... могли это пережить, то мне не пристало плакать.
- Приходите завтра пораньше.
Я протянула ему руку. Он медленно, трудно приподнялся на локте, тяжело поворотил на бок свое грузное тело, и взял мою руку в свою. Поцеловал ее, потом посмотрел на меня и поцеловал еще раз.
Я ушла.
... 49 г.
Итак, они его просто убили. И все мои тогдашние очереди в Ленинграде и в Москве были зря. И заявления. И письма. И просьбы о пересмотре дела. Все было - поздно. Когда я еще моталась от одного окошка к другому, Алеша давно уже лежал в земле.
Где они его закопали?
Убив его, они продолжали лгать мне долгие годы.
"Оснований для пересмотра нет". "Кончится срок, он напишет вам сам". "Сведений о смерти не поступало". И в последний раз, два года назад: "Может жив, может умер, а я почем знаю? Мы вам не ЗАГС, гражданка. Нам о смерти не сообщают. Обратитесь в ЗАГС".
Как это ни странно, ночь я спала.
Может для Алеши и в самом деле так было лучше?
День выдался нерабочий, тревожный. Он, как на блюде, подавал мне все новые и новые тревоги - и в газете, которую я прочла за завтраком, и на прогулке, и дома. Спуск сегодня не состоялся, встреча с Билибиным оказалась пустая... Тревожило все.
По дороге в столовую я разыскала в гостиной последнюю "Литературку" и, завтракая в одиночестве, прочитала ее от строки до строки.
Передовая: "Выше знамя большевистской партийности!"
"Надо признать, что журнал "Знамя" снизил идейно-художественное качество публикуемых материалов и напечатал ряд идейно-порочных и неполноценных в художественном отношении произведений с космополитическим душком и формалистическими вывихами".
Отчет о собрании в "Литературной газете" и там, среди других наступлений, выступление милого, мягкого Сергея Дмитриевича:
"Товарищи, я должен по прямому, по партийному признать, что с большим запозданием, только в последние дни, благодаря острой критике со стороны партийной печати, спала с моих глаз пелена, возникшая благодаря приятельству".
Вторая полоса: "Космополиты из журнала "Театр":
"Идеалист и формалист, матерый представитель компаративистской школы, яростный сторонник всего иноземного, профессор Шумилов (Шнеерман) злостно, на протяжении всей своей жизни протаскивал унижающие достоинство советского человека теорийки, засорял головы нашей молодежи антипатриотическими, антинаучными утверждениями".
На третьей полосе: "Космополит о замечательном советском актере"...
Сквозь чистое стекло я поглядела на маленькую елку, на сверкающую, отлогую скатерть снегов - словно перекрестилась, прося защиты и помощи. Но слова статей кололи мозг, как давно застрявшие там занозы, впивавшиеся теперь глубже и глубже. "Идейка", "школка" - я все это уже читала тогда. И "Выше знамя!" только тогда было бдительности. И "матерый" - только тогда чаще всего это был "двурушник" или "враг" (слитные формы: "Выше знамя большевистской бдительности!" и "матерый двурушник"). И этот до ужаса примелькавшийся дефис в определении "идейно-порочный" - даже этот дефис оттуда... Слитные формы, кувыркающиеся в пустоте.
Я с трудом глотала творог. Мне казалось, что если я отнесу газету обратно в гостиную, оставлю ее там, а сама уйду в рощу и надышусь чистым воздухом - отрава уйдет из меня, как уходит угар. Но в роще - встреча за встречей, одна горше другой. Все разные и все твердящие о чем-то одном, словно какой-то режиссер нарочно поставил их, желая усилить мою тревогу.
Мне навстречу шла девушка, которую я часто видела в коридоре - уборщица или санитарка, не знаю. Совсем молоденькая, но постоянная хмурость старит ее. Сейчас перед нею, быстро семеня ногами, рысцой бежала девочка лет шести-семи. Все на девчонке не в пору, с чужого плеча, с чужой ноги: большие валенки, большой, не по росту, засаленный, с оборванными пуговицами ватник, большой черный платок, повязанный крест на крест, так, что узел приходится впереди, чуть повыше колен. Платок налезал ей на щеки, на лоб, то справа, то слева и я, щурясь и вглядываясь, никак не могла разглядеть, ее лицо... Обе они, взрослая и маленькая, увидав меня, сошли в снег, уступая мне тропку, и маленькая совсем провалилась.
- Теперь домой пошла! - приказала сурово старшая девочке и быстро зашагала по тропинке к санаторию. - Напровожалась! Кому говорю - домой! Там Витька твой орет уже! Домой иди, слышишь?
Маленькая заморгала глазами, потянула носом, попробовала рукавом отодвинуть со лба платок.
Я взяла ее подмышки и переставила обратно на тропинку. Она смотрела вслед старшей, быстро шагавшей между берез.
- Сестра? - спросила я, наклонившись.
- Двоюродная, - охотно ответила девочка. - Наше фамилие Симаковы, а ихнее Ласточкины.
- А зовут тебя как?
- Лелька.
Она все стояла, глядя в спину сестре. Та уже подходила к корпусу. Лицо у девочки было синеватое, цвета снятого молока.
- Ну что же, давай знакомиться, Лелька, - сказала я. - Ты что же никогда не приходишь к нам? В гости? Твоя двоюродная где работает? Привела бы тебя в кино, у нас интересные картины бывают.
- На складу... А нам в корпус нельзя.
Она повернула и зашагала по тропинке обратно и я за ней следом. Среди снегов в черном платке, нескладная, спотыкающаяся, в огромных валенках она была похожа на маленькое ожившее огородное чучело.
-- А почему вам в корпус нельзя?
Лелька ответила, продолжая шагать и не поворачивая ко мне головы:
- Там писатели живут... А мы грязи натопчем. Людмила Павловна сказала: "увижу - уши оборву!" А Тонька сказала: "не бегай ты ко мне, еще из-за тебя с места сгонят".
- А мать твоя где?
- На картонажной работает. В Загорянке.
- А отец?
- Без вести.
Я постояла, посмотрела ей вслед. Она шла, черная среди берез, как маленький пенек.
- Леля, до свиданья! - крикнула я. Она попыталась повернуться, но запуталась в платке и крикнула не мне, а вперед: - До свиданьица!
Я свернула на боковую тропу. Белые пушистые подушки уютно разместились на черных ветвях. Иногда не понять было, на чем они держатся там: тоненькие голые ветки, и на этих прутиках целый пушистый шар! Расположился, едва прикасаясь к ветвям, и лежит как ни в чем не бывало. Маленькие елочки, тепло укутанные снегом, были похожи на детский сад, заботливо выведенный на прогулку... "А мы грязи нанесем!" занозой торчало у меня в сердце. И я со злобой посмотрела на полную даму в модном черном пальто и пуховом платке, которая двигалась мне навстречу. Это была Людмила Павловна.
"Вот легка на помине! Интересно, а из лесу она их не гоняет?" подумала я.
Глядя на ее плавную походку, я вспомнила, как она недавно помешала мне работать. Когда все ушли в кино и наступила надежная тишина, которая продержится, я знала, около двух часов, - я села за стол "спускаться". И вдруг, когда ясно встал передо мною тот день, который я хотела вызвать из прошлого - все зачеркнуло щелканье дверных замков в коридоре. Кто-то открывал двери комнат, входил внутрь, потом выходил обратно, запирал комнату и шел в другую. Щелкали запираемые и отпираемые замки.