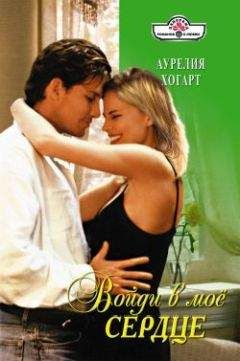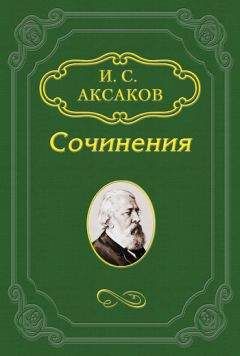Сергей Шаргунов - Ура !
Почему-то попсу принято ругать. Ругают разночинцы, затюканные простой средой и выбившиеся в студенты. Они думают: их среда - неудачна, надо стремиться к "интеллигентному". И кайфуют под гитарные переборы, и мудреные образы, и под блеянье...
На одном дне рождения я оказался в обществе недоумков. Оживленные разговоры о поездках автостопом и "на собаках". И тонкая истома коллективного пения:
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались...
Дерьмо!
Я понимаю трагедию молодых разночинцев. Слишком повязаны они с прямолинейной средой, поэтому, когда слышат попсовую песню, им кажется, что эта среда посягает на них. А они хотят из этой среды вырваться.
Но ругать попсу - дурной тон! Белоголовая девочка с кисловатым запахом худого тельца говорит: "Не люблю попсу", - и тотчас ее лицо должно налиться краской. Розовой краской позорища.
Я буду защищать попсу. У народа сильнейшее чутье. Человек ни на что не претендует. Живет среди нужных предметов. Миска ухи. Канистра бензина. Река. Небо. Транзистор. И, не лукавя, выбирает близкое ему.
Пора искусству в полный голос заявить: да, за попсу! Группа "Руки вверх". Под звучание их альбома я пишу эту повесть. Пишу черной авторучкой, лист за листом укладывая на стол, а у моей ноги на полу музыкальный центр напевает:
Ветер шумит негромко,
Листва шелестит в ответ.
Идет не спеша девчонка,
Девчонке пятнадцать лет!
Но в свои лет пятнадцать
Много узнала она...
В крепких мужских объятьях
Столько ночей провела!
И вдруг безудержный взрыв:
Чу-жи-е губы тебя ласкают!
Чужие губы шепчут тебе,
Что ты одна! ты одна такая!
Чужая стала сама себе!!!
Я притоптываю ногой. Хорошо, что рифмы никакие. В русских народных песнях тоже не в рифмах дело. Я думаю о тебе, Лен, кстати... Тебе скоро пятнадцать, я позвоню, поздравлю, Мясникова.
Неотвязная песня. Прицепится - и целый день будет крутиться в голове. Старые песни туда же. Слушаю бас Шаляпина, в котором и весенние паводки, и острое дребезжание мошки. Я как услышал "Дубинушку" в детстве, так и влюбился. Гундосая песня. Ломает Шаляпин отсыревший сук, сук скрипит, скользят капли на Шаляпина, и шумит, отзываясь, лес:
Уй, дубинушка, ухнем,
Сама пойдет! сама пойдет!
Подернем!
Я прошел по грязной улице и попал в арку. Там стояли двое в дубленках, у черной гигантской машины, молодые дельцы чего-то, зловещая наружность... Переминались. А я вспомнил: "Подернем! Подернем!"
Один, монголоид, агрессивно сверкнул глазом на меня, я ему ответил тем же. Старинного камня особняк был пропитан весною. Дверь тяжело подалась за золотую ручку. Я вошел, на полу черные лужи, и быстро накрутил три цифры телефона.
- Татьяна? Это Шаргунов. Я обещал вам...
- Счас.
Выскочила женщина в черной блузе, она махнула мне, я пошел за ней. Кабинет, широкий, убеленный табачными дымами, воспаленно горят компьютеры. За одним из них склонился мужчина. Спина в сером свитере.
НО НАСТАЛА ПОРА
Я передал лист. Черноволосая, с черными смородинами глаз, красная змейка лопнувшего сосуда на переносице.
И ПОДНЯЛСЯ НАРОД!
Она держала мой лист на отлете и изучала.
- Но это не то, - сказала она нервно и позвала: - Алик, иди смотри.
Он не сразу встал, а мутно закопошился у себя на стуле, она закурила.
- А что, плохо? - спросил я.
РАЗОГНУЛ ОН МОГУЧУЮ СПИНУ!
- Нам надо не обзор, а рецензию, - важно сказала она. - Вы, надеюсь, понимаете разницу? - и с сомнением заглянула мне в глаза. - И нужен больше объем. До трех страниц.
- Хорошо, я переделаю, - кивнул я, а в голове моей рокотало: "Ой, дубинушка, ухнем, ай, зеленая, сама пойдет, сама..."
Серый приблизился и обнял ее за плечо и тоже стал всматриваться в мой лист.
НА ВРА-А-АГОВ СВОИХ
- Должна быть мысль, - сказал он язвительно и свистнул ноздрей.
- Да, - подхватила тетка, стряхивая пепел на пол. - Поразмыслите... Может, на мысль набредете.
НА ВРА-А-АГОВ СВОИХ
Я опять весело кивнул...
ПОДНЯЛ ДУБИНУ!
Она уже пристально заглянула мне в глаза. Я удивился ее взгляду. Я вдруг понял: она ждет от меня навернувшихся слез. Они стояли слипшись, чуть покачиваясь, у ней сигаретка на отлете, и, очевидно, изображали из себя профессионалов. И тетка почему-то ждала, что я, юный, заплачу.
ТАК ИДИ ЖЕ ВПЕРЕД,
ТЫ! ВЕЛИКИЙ НАРОД!
- Все, - кивнул я в третий раз. - Я все исправлю. Завтра принесу. До свидания. - И вышел вон.
Меня ждала весенняя дурная улица.
- Пацаны, пацаны, не надо, пацаны...
Я услышал крики, непонятная возня у черной машины. Две арки были у дворика, и я предпочел снова идти мимо черной машины, к дальней арке. Я шел и видел: двое, те самые, в дубленках, в сырости толкли кого-то ногами.
ЭХ, ДУБИ-И-И-НУШКА!!!
- Пацаны! - кричал он из-под ног.
Забивали среди бела... среди серого, в серых развалинах снега дня.
- Проходи, - буркнул мне один из них, монгол.
Песни отпечатываются на судьбах. Очень важно, какие слушать песни. Вся жизнь как песня. А я какие ни слушал, во всех различал отчаяние. Любой голос им отравлен, пусть и бессознательным, отчаянием. Я пластинку поставил. Пение пылало сквозь хрипотцу записи: "Моя Марусечка! Моя красавица!" Певец цокал языком, причмокивал. "Моя Марусечка! А жить так хочется!" Какая страшная песня. Я выключил, а все равно звенело в ушах. Моя Марусечка... Хотелось волком выть.
Наши звуки!
Разъедающий сердце "Сиреневый туман...".
"Вставай, страна огромная!" шатает мой слух, как слепой Самсон колонны храма...
Летом, весь гудящий уличной жарой, я ступаю в темень подъезда. Взбегаю по лестнице. Насвистываю. Сочное яблоко куплено по дороге, я догрызаю его на бегу, кидаю огрызок в распахнутое окно третьего этажа. И, возносясь на седьмой, не переводя дух, жму кнопку звонка. Допустим, открывает мама. Торопливо говорю ей несколько нежных слов и иду в ванную. Вода разбивается о макушку, стекает по всему Шаргунову. Насвистываю! И я уже ни о чем не думаю, превращаюсь в прохладную водицу... Босиком на коврике вытираюсь.
Ура, ура, ура!
Ура, ура, ура!
так он напевал, наряжаясь во все чистое.
СТАРИКИ
Детское лето, дача. Местный мальчик Алеша, голенький, с круглым барабаном живота, увлеченно скалил клычки. За ним гналась бабка в пигментных разводах на лице: "Алеша! Не хулюгань!" Смуглая, в бархате родинок. В руке зеленая ветка. Нагнав внука, лупила. Тот изворачивался, кусался. "Алеша! Не хулюгань!" неслось по дороге. Внук имел привычку мазать стекла машин грязью, и бабка, не желая скандалов, отгоняла его.
У Алеши был дед-каторжанин. Усохшее лицо и широкая вольная грудь.
- Расти, орел, пионером станешь! - сипел дед, смоля папиросу.
Внук сладостно показывал редкие зубки.
Вскоре дед умер. Яркий автобус, прощальные фигуры были похожи на призраков. И ритуальный автобус - как привидение.
Шли годы, я стал юношей. Мягкой зимой умирала старуха. На ледяной веранде округло мельтешила ее дочь. Алеша служил в армии. В глухой комнате было безжизненно натоплено. Умирающая лежала, лиловея кофтой, перебирая губами. Над изголовьем висело зеркало в пигментных разводах, с которого победные мухи пикировали на ее лицо. Для меня это было репетицией прощания с собственной бабушкой.
Я поднес воду, кружка звякнула о зубы. За окном высился слоистый сугроб, заявлявший о странности бытия. Вот и все.
Всегда я чувствовал в старом человеке какую-то тайну, мне казалось, что он мне может что-то открыть важное. Своим воспитанием, формированием своей личности я прямо обязан старикам. Я и сейчас пропитан к старости почтением и даже подобострастием.
До семнадцати лет я жил в желтом девятиэтажном доме на Фрунзенской набережной, с мрамором, башней, шпилем. Наш широченный двор казался закупоренным - с одной стороны его сторожил забор заводика, увитый колючей проволокой, а с другой стороны дом обхватывал двор двумя лапами. Огромная клумба разделяла двор на две части. И мы, дети, ослепленно бились двумя отрядами. Как это захватывало: задыхаясь в крике "ура!", вырваться за клумбу на вражескую территорию и гнать прочь палками и камнями...
Эта клумба была монументом трагедии двора, еще за год до моего рождения здесь клокотал фонтан и все утопало в зарослях, в сирени и яблонях. Потом за преобразования взялось начальство, и, искоренив рай, оставив несколько корявых тополей, двор выложили серыми плитами. Фонтан сменила грустно-фиалковая клумба. Миф об убитом райском дворе занимал меня все детство. Двор загубила некая начальница ЖЭКа. Некто Пяткина, как говорили всезнающие старики. "У, Пяткина!" - думал я, засыпая, стиснув зубы.
Старики сидели на скамеечках по краям двора. Я жил на втором этаже, на первом - Михал Михалыч. С раннего утра он сидел у подъезда. Всегда свежий, выбритый, наодеколоненный, широкополая шляпа, коричневый плащ. Крупный, с твердым, как гранатовый плод, лицом. Михал Михалыч опирался на палку с набалдашником (лакированная голова оленя). К детям он относился со всей душой, всерьез. Как-то я разошелся, устроил для него свой концерт: прыгая вокруг него, ногой поддел пригоршню песка. Песок попал ему за шиворот, старик заморгал, вытряхиваясь: "Я тебя не знаю, хулиган!" Но легко простил. Дети его обступали, он добродушно шутил и раскидывал конфеты. В воздухе каркала ворона, а он восклицал: "О! Ворона принесла!" - и незаметно из рукава плаща вылетала "Коровка" или "Красная шапочка"...