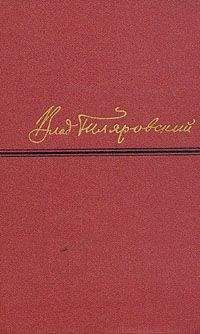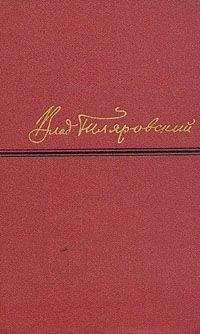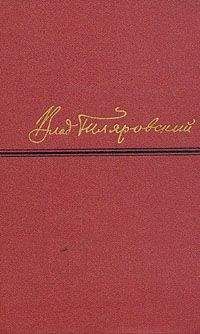Владимир Гиляровский - Сочинения в четырех томах. Том 1
Далее нам Петля рассказал, что на Репку, конечно, взъелись все конкуренты-хозяева, которых рабочие начали попрекать новой артелью, и лучшие батыри перешли в нее. Нашлись предатели, которые хозяевам рассказали о том, кто такой Репка, и за два дня до нашего прихода в Рыбинск Репку подкараулили одного в городе, арестовали его, напав целой толпой городовых, заключили в тюремный замок, в одиночку, заковав в кандалы. И постановили старые его товарищи и станишники — во что бы то ни стало вызволить своего атамана. Через подкуп писаря в тюрьме узнали они, что Репку отправят в Ярославль только зимой, чтобы судить в окружном суде. И постановили его выручить, а для этого продолжали вести артель, чтобы заработать денег, напасть на конвой и спасти своего атамана. Только тут Костыга отложил свою затею. Мы поступили в артель. Паспортов ни у кого не было, да и полиция тогда не смела сунуться на пристани, во-первых, потому, чтобы не распугать грузчиков, без которых все хлебное дело пропадет, а во-вторых, боялись холеры. Кроме Репки, — и то в городе взяли его, — так никого из нас и не тронули.
Дня через три я уже лихо справлялся с девятипудовыми кулями муки и, хотя первое время болела спина, а особенно икры ног, через неделю получил повышение: мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я весь влился в артель и, проработав с месяц, стал чернее араба, набил железные мускулы и не знал устали. Питались великолепно… По завету Репки не пили сырой воды и пива, ничего, кроме водки-перцовки и чаю. Ели из котла горячую пищу, а в трактире только яичницу, и в нашей артели умерло всего трое — два засыпки и батырь не из важных. Заработки батыря первой степени были от 10 до 12 рублей в день, и я, при каждой получке, по пяти рублей отдавал Петле, собиравшему деньги на побег атамана. Да я никакого значения деньгам не придавал, а тосковал только о том, что наша станица с Костыгой не состоялась, а бессмысленное таскание кулей ради заработка все на одном и том же месте мне стало прискучать. Да еще эта холера. То и дело видишь во время работы, как поднимают на берегу людей и замертво тащат их в больницу, а по ночам подъезжают к берегу телеги с трупами, которые перегружают при свете луны в большие лодки и отвозят через Волгу зарывать в песках на той стороне или на острове.
Только и развлечения было, что в орлянку играли. Припомню один веселый эпизод из этой удалой нашей жизни среди кольца смерти. От двенадцати до двух было время обеда. На берегу кипели котлы, и каждая артель питалась особо. По случаю холеры перед обедом пили перцовку. Сядем, принесут четвертную бутыль и чайный стакан. Как только сели артели за обед, на берегу появлялся огромный рыжий козел, принадлежавший пожарной команде. Козел был горький пьяница. Обыкновенно подходит к обедающим в то время, когда водку пьют, стоит, трясет бородой и блеет. Все его знали и первый стакан обыкновенно вливали ему в глотку. Выпьет у одних, идет к другой артели за угощеньем, и так весь берег обойдет, а потом исчезает вдребезги пьяный. И нельзя было не угостить козла. Обязательно первый стакан ему, — а не поднести — налетит и разобьет бутыль рогами.
* * *Куда бы повернула моя судьба — не знаю, если бы не вышло следующего: проработав около месяца в артели Репки, я, жалея отца моего и мачеху, написал им письмо, в котором рассказал в нескольких строках, что прошел бурлаком Волгу, что работаю в Рыбинске крючником, здоров, в деньгах не нуждаюсь, всем доволен и к зиме приеду домой.
Как-то после обеда артель пошла отдыхать, я надел козловые с красными отворотами и медными подковками сапоги, новую шапку и жилетку праздничную и пошел в город, в баню, где я аккуратно мылся, в номере, холодной водой каждое воскресенье, потому что около пристаней Волги противно да и опасно было по случаю холеры купаться. Поскорее вымылся, переоделся во все чистое и в своей красной жилетке с золотым галуном иду по главной улице. Вдруг шагах в двадцати от меня из подъезда гостиницы сходит на тротуар знакомая фигура: высокий человек с усами, лаковые сапоги, красная рубаха, шинель внакидку и белая форменная фуражка. Я, не помня себя от радости, подбегаю к нему:
— Папа, здравствуй!
Он поднял вверх руки и на всю улицу хохочет:
— Ах, черт тебя дери! Вот так мундир! Ну и молодчик!
Мы обнялись, поцеловались и пошли к нему в номер.
— Я только что приехал и тебя искать пошел. Отец меня осматривал, ощупывал, становил рядом с собой перед зеркалом и любовался:
— Ну и молодчик!
Заказали завтрак, подали водки и вина.
— Я уже обедал. Сейчас на работу… Пойдем вместе!
— Ну, это ты брось. Поедем домой. Покажись дома, а там поезжай куда хочешь. Держать тебя не буду. Ведь ты и без всякого вида живешь?
— На что мне вид! Твоей фамилии я не срамлю, я здесь Алексей Иванов.
— Умно. Ну, закусим да и поедем.
Я в чистом номере, чистый, в перспективе поездка на пароходе, чего я еще не испытывал и о чем мечтал.
— Ладно, поедем. Только сбегаю, прощусь с товарищами, славные ребята, да возьму скарб из мурьи.
— Плюнь на скарб! Товарищи не хватятся, подумают, что сбежал или от холеры умер.
— Там у меня сотенный билет в кафтане зашит.
— Ну и оставь его товарищам на пропой души. Добром помянут. А пока пойдем в магазин купить платье.
Пошли. Отец заставил меня снять кобылку. Я запрятал ее под диван и вышел в одной рубахе. В магазине готового платья купил поддевку, но отцу я заплатить не позволил — у меня было около ста рублей денег. Закусив, мы поехали на пароход «Велизарий», который уже дал первый свисток. За полчаса перед тем ушел «Самолет».
Вдруг отец вспомнил, входя на пароход:
— А ведь красную жилетку твою забыли!.. Куда ты ее засунул? Я не видал…
— Да под диван.
— Экая жалость! Навек бы сохранил дорогую память.
Мы сидели за чаем на палубе. Разудало засвистал третий. Видим, с берега бежит офицер в белом кителе, с маленькой сумочкой и шинелью, переброшенной через руку. Он ловко перебежал с пристани на пароход по одной сходне, так как другую уже успели отнять. Поздоровавшись с капитаном за руку, он легко влетел по лестнице на палубу — и прямо к отцу. Поздоровались. Оказались старые знакомые.
— Садитесь, капитан, чай пить.
— С удовольствием… Никак отдышаться не могу… Опоздал… И вот пришлось ехать на этом проклятом «Велизарии»… А я торопился на «Самолет». Никогда с этим купцом не поехал бы… Жизнь дороже.
— А что?
— Не знаете?
В это время был подан третий стакан для чаю. Отец нас познакомил:
— Капитан Егоров.
Продолжался разговор о «Велизарии». Оказывается, пароход принадлежит купцу Тихомирову, который, когда напьется, сгоняет капитана с рубки и сам командует пароходом, и во что бы то ни стало старается догнать и перегнать уходящий из Рыбинска «Самолет» на полчаса раньше по расписанию, и бывали случаи, что догонял и перегонял, приводя в ужас несчастных пассажиров.
— Шуруй! Сала в топку! Шуруй!
Неистово орет с капитанского мостика. Пароход содрогается от непомерного хода, а он все орет:
— Шуруй! Сала в топку!
На его счастье оказалось, что Тихомиров накануне остался в Ярославле, и пассажиры успокоились…
Мы мило беседовали. Отец рассказал капитану, что мы были в гостях в имении, и, указав на меня, сказал:
— Все лето рыбачил да охотился сынок-то, видите, каким арабом стал.
И тут же добавил, что я вышел из гимназии и не знаю еще, куда определиться.
— Да поступайте же к нам в полк, в юнкера… Из вас прекрасный юнкер будет. И к отцу близко — в Ярославле стоим.
После недолгих разговоров тут же было решено, что мы остановимся в Ярославле, и завтра же Егоров устроит мое поступление.
— Вот хорошо, что вы опоздали на «Самолет», а то я никогда и не думал быть военным, — сказал я.
— Кисмет! — улыбнулся Егоров.
Он служил прежде на Кавказе и любил щегольнуть словечком.
— Да-с, кисмет! По-турецки значит — судьба. «Кисмет!» — подумал и я и часто потом вспоминал это слово: «Кисмет».
* * *Я сидел один на носу парохода и смотрел на каждое еще так недавно исшаганное местечко, вспоминал всякую мелочь, и все время неотступно меня преследовала песня бурлацкая:
Эх, матушка Волга,
Широка и долга,
Укачала-уваляла,
Нашей силушки не стало…
И свои кое-какие стишинки мерцали в голове… Я пошел в буфет, добыл карандаш, бумаги и, сидя на якорном канате, — отец и Егоров после завтрака ушли по каютам спать, — переживал недавнее и писал строку за строкой мои первые стихи, если не считать гимназических шуток и эпиграмм на учителей… А в промежутки между написанным неотступно врывалось:
Укачала-уваляла.
Нашей силушки не стало…
Элегическое настроение иногда сменялось порывом. Я вскакивал, прыгал наверх к рулевому, и в голове бодро звучало: