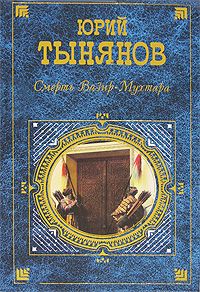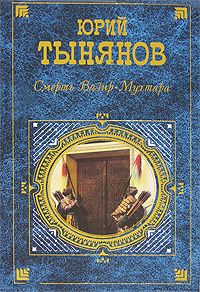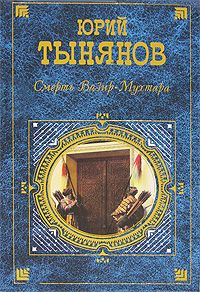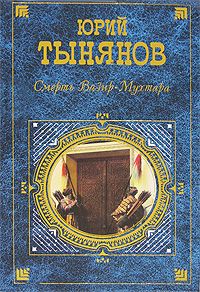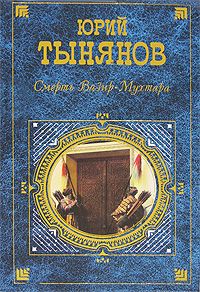Юрий Тынянов - Восковая персона
- Эй, Ландстрем!
А потом смеялась и махала рукой с большой добротою: Монс. И раз Ландстрем поехал с нею кататься по озеру, они близко подъехали к тому комтурному замку, и она увидела часовых, увидела их лица. Тогда часовые отдали им салют, и она покраснела от гордости. И когда на улице увидел ее комендант всего города, самый сухой, самый прямой человек во всем городе, а он был старик, и его имени боялся ее муж, его имя было как выстрел: Пхилау фон Пильхау, - он понял, кто идет по улице, потому что она легко дышала и шла как на бой, - и она была у него в ту же ночь, и он научил ее шведским учтивствам, хитрым ответам, - потому что он был уже стар. Теперь, когда она ходила по улицам, - все замолкали, а дети подбегали к окнам, и матери их били, чтоб они на нее не смотрели, - потому что по улицам шла Крузе, потому что ей стал тесен город, как пояс, и еще стали низки красные трубы, и старушечий язык стал чужой. А старухи говорили, когда она проходила, по-шведски, и по-латышски, и по-немецки одно малое женское слово. И Ландстрем был любезный кавалир, он уезжал из города и уговаривал бежать; она соглашалась, но тогда город обложили русские, и стал стрелять Бутурлин, шведского языка не стало, город взяли, замок разрушили, а она попала в полон, и солдаты русские ее начали сильно учить говорить по-своему, а она была в одной рубахе; и Шереметьев потом учил, потом сам Данилыч, герцог Ижорский, учил ее говорить по-своему, потом хозяин. И он оставил ей в первую ночь за хороший разговор круглый золотой дукат - два рубли, - потому что разговор был хороший, охотный. И она не говорила, она пела. И все разговоры всех наречий услыхала она и говорила на всех, ловко перенимала, а все чтоб ходить вокруг хозяина. Она их всех чуяла по глазам или по голосу, она по голосу знала, каков будет человек в разговоре. И она не понимала слов, она только притворялась, что понимает, - это начиналось у ней дыханием в груди и доходило до рта - ответом, и ответ бывал всегда ловким, она попадала прямо в цель. А понимала она только один человеческий язык, и тот язык был как дитя растущее, или листья, или сено, или девки на молодом дворе, что пели песнь.
И она соберется туда, в Крышборх и Марьенбурх. Сколько раз она у старика просила, чтоб отдал ей балтские земли, но не отдавал. А теперь поедет в золотом полукаретье или цугом в восемь лошадей кататься, господа гвардия на соловых лошадках вокруг нее как птенцы - и чтобы все жители вышли кланяться ей за околицу. Ксендз, и корчмарь, у которого брат служил в корчме, и пастор, и курлянчики - все выйдут встречать. И потом она кого-нибудь осчастливит и переночует. Будут хлопотать все, чтоб услужить!
Но все они уже умерли, и незачем туда ехать. Фу! Марьенбурх! Что ж туда ехать, в деревню? Свиней смотреть! И замок разрушен.
Была пора, была самая пора идти, а она не понимала, что от нее еще нужно, что ей сегодня такое делать. Она будет плакать, потом она даст праздник господам гвардии и сама им будет разливать вино. Она засучит рукава, ну и бог с ними, и выпьет сама. Но все-таки лучше после похорон. Они любят ее: matuska polkownica. Вот она так сидит, просторная, толстая, открытая. Тут она остереглась: не слишком ли много воли? То все - ходи вокруг хозяина, а теперь сама себе хозяйка и сидит здесь совсем открытая. Всё моря кругом, сквозной лес и мало домов - и она отовсюду видна, и все иностранные государства на нее теперь глядят. А у ней ноги белые, им еще ходить хочется. Она не понимает того государственного языка: не выдать ли Лизавету замуж во Францию? Но Франция медлит, а замедление ради политики и для того, что Лизавета, Лизенка - байстручка, потом уже привенчана. Дела, дела, ох! Как там, в Сенате? Все Alexander, все он один, но он такой фальшивый, что нельзя верить. "Пойдем, мать" или "сядем, мать". Этого не было раньше. Какая она ему мать? Она ему укажет его место. Так нельзя, не можно. А что было двадцать лет назад, - на это у нее памяти нет, у нее много всего было за двадцать лет. И как он стар! Сухой и старый, как... полено. Фу! Старик! И она уж по-русски сказала то слово, которое переняла и любила:
- Уж я надселася.
Тут пошел канареечный щебет в клетках: тех канареек хозяин отнял у Вилима Ивановича, когда его казнил, и повесил клетки ей в комнату, чтобы она помнила. Она сунула большие и красные ступни в войлошные туфли и пошла канарейкам задавать корм. И тут она почувствовала, что ноги-то ветерком относит, что она еще со вчерашнего вечера пьяная. А отчего? Оттого, что масленая неделя стоит, более ни от чего. Он умер, и спустя два дня настала масленица. И для ней масленая в полмасленые, а вчера пришлось. Потому что считается за праздник. А Елизавет - Лизенка много выпила, и она даже не ожидала, как эта Madel 1 крепка на ногах. А Голстейнского рвало как из ведра. Какой слабый! Фу!
Был бы Вилим Иванович, этот любезный и истинно любезный кавалир с нею! Вот он бы сказал ей: Mein Verderben, mein Tod, mein Lieb und Lust! 2 Он знал, о! как хорошо он все знал! Куда нужно ехать, и кого принять, и что пить, и что можно сказать, und alle Lustigkeiten - jeden Tag 3.
1 Девушка (нем.).
2 Мое проклятие, моя погибель, моя любовь и радость! (нем.).
3 И всякие удовольствия - каждый день (нем.).
Клетки висели над столиком, а на столике лежали его вещи, она их теперь велела принести к себе. И вещи были истинно щеголеватые, вещи красивого кавалира, и они еще пахли. Трубка в оправе пряденой, золотой она пахла приятным и легким табаком, золотный кошелек - она возьмет его себе и будет носить при себе. Струсовое перо и табакерка с порошком, чтобы чистить зубы. Те белые зубы, со смехами! Часы с ее портретом на крышке, который делал майстер Коровяк, которые она сама ему подарила. И у нее здесь белая грудь и голова набок. Нос только чрезмерный нарисован. Она стерла пыль с часов - совсем новые часы, красивая вещь! И жемчуга, сколько жемчугов она ему дарила! А пуговицы можно нашить на новое платье. И струсовое перо к опахалу приладить. Да, он был нарядный, все любил напоказ. И золотой пуппхен с малой шпагой - это бог воины. О! Ведь он был такой ученый и истинно ловкий господин и писал ей такие песни! - "Welt, ade" 1 и дальше не вспомнила. И умер как вор, а теперь бы она его всего убрала в золото! Он за ней бы ходил! И не дождался всего два месяца. И чуть она через него сама не погибла. Фу! Пропал как дурак, сам виноват, он был неосторожный, все хвастал. А теперь бы ходил за нею одетый как кукла!
1 Мир, прощай (нем.).
Она положила послать в куншткамору бога войны, как истинную редкость, все поставила на место и на сей день забыла Вилима Ивановича.
И тут сквозь приятный канареечный щебет сказал за ее спиной голос хозяина:
- Пойдем в Персию!
Тот голос охрип, от табаку сел, и то был его голос, старика.
И она обмерла, а хозяин хохотнул:
- Katrina! Артикул метать! Хо! Хо!
И то был не хозяин, а то был хозяйский гвинейский попугай, которого, когда тот болел, к ней перенесли и который все время молчал, а теперь заговорил. Свернуть бы ему шею! За что такую птицу многие люди любят и платят за них немалые деньги! И положила тоже послать в куншткамору, как околеет, а чтоб скорей околел - не кормить.
Была пора, была самая пора, и времени она не стала терять, зазвонила в колоколец. Тотчас вошли фрейлины, и она стала производить умыванье и притиранье.
Подавали ей расписной кувшин в расписной мисе, и то была великая новость, как во Франции имеют моду: и кувшин и миса из толстой бумаги, проклеенной, и воду держат лучше фарфора. А в кувшине вода, и она стала плескаться и плеснула датской водой на грудь.
Датскую воду составлял аптекарь Липгольд из нюфаровой воды, бобовой, огурешной, лимонной, из брионии и лилейных цветов. Для нее имали семь белых голубей, их аптекарский гезель щипал, рубил им головы и папортки долой; мелко толок - и в воду. И перегонял. И эту датскую личную воду она любила. Она ей плескалась и подавала рукой на грудь.
А венецианскую воду, производящую на смуглой коже белизну, она вылила на фрейлину в гневе. Та вода была майское молоко от черной коровы, и ей была не нужна, о том она уже раз фрейлине сказала. Она не была смуглая, у ней была своя, натуральная белость, и она закричала толстым голосом и вылила на фрейлину эту воду.
Потом уж было недолго: притерлась помадой бараньих ног и лилей - для мягкости и блеска, а воском для чего-то притерла ноги. И, двинув ушами, нарисовала на виске три синие жилки, елочкой - для обозначения головной боли.
Горчичным маслом она натерла правую руку.
На нее накинули черные агажанты.
Она терпеливо стояла.
Ей насунули на голову фонтанж, черный и белый, и облачили в черную мантию.
И тогда, обутая, одетая, толстая, белая, в черном и белом, понесла Марта свои груди вперед - в парадную залу.
И поднесла левую свою руку, умытую ангельскою водою, к лицу - закрыла слегка лицо - как бы в скорби - из залы шел дух.
А когда вошла в залу - опять увидала всех господ иностранных министров. Господа иностранные государства собирались сюда, чтоб смотреть, как она плачет с десяти пополуночи до двух часов пополудня. И она увидела Левенвольдика, молодого, со стрелками, с усиками - и поняла, что приблизит. Потом посмотрела вбок и увидела Сапегу, жениха племянницына, еще совсем ребенка, и поняла, что приблизит.