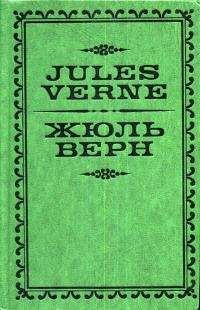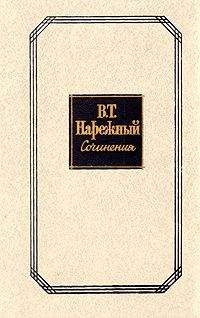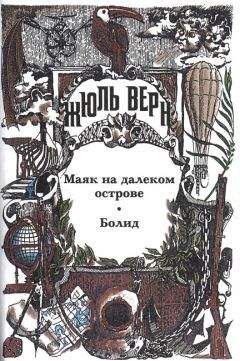Василий Нарежный - Том 1. Российский Жилблаз
Я. Этого не много! Только и слышно: Шафскопф, колбасник, колбасница! вы очень скупы!
Немец. По крайней мере справедлив, как прилично доброму немцу! Господа эти (указывая на испанца и поляка) не столько чистосердечны. Можно ли поверить, чтоб человек мог быть жив, питаясь хотя двое суток хлебом и водою? О небо! Алонзо говорит, что он с отцом своим испытали то в течение целого года! нет, не верю!
Испанец. Гораздо удивительнее, что ваш высокопочтенный дедушка удовольствовался после побега жены своей также побегом в Россию! Испанец никогда не оставил бы того без кровавого отмщения!
Немец. Неужели же ему пойти было в монахи, как сделал отец ваш? но у нас нет монастырей!
Француз. Браво! я готов удариться об заклад, что если бы вы не были колбасником, то, верно, славным юстиц-ратом!
Поляк. Видно, одна моя повесть не подвержена сомнению!
Испанец. Ничуть! я первый не понимаю, как можно человеку, здоровому глазами, при месячной ночи не различить мужчины от женщины и вместо прелестных губ красавицы с нежностию облобызать усатые губы полковника!
Поляк. Я был в восторге, пылал любовным жаром, – так нетрудно обмануться. Но если бы мне целый полк явился ангелов, увещевая путешествовать по свету за то, что поколотил какого-то…
Испанец. Как? Богоугодные дела сравнивать…
Я. Тише, господа, тише! Сколько вы чудесностей ни насказали, но я могу донести вам о таком диве, что вы ахнете; однако ж все будет справедливо. Я очевидец, что один кривой, хромой и безногий человек от трех или четырех ударов по спине вдруг исцелился от всех сих недостатков и бегал быстро, как олень.
Испанец. Это подлинное чудо! Да не католик ли он?
Прочие. Невероятно, кто бы он ни был!
Шафскопф. Что? бегал, как олень? Помилуй бог! И ходить – право, трудное дело; а то бегать!
Нищий. Я докажу, милостивые государи, справедливость слов Гаврилы Симоновича. Подождите меня несколько минут.
Он встал и вышел.
Глава XIV Кто ж этот нищий?По выходе Пахома дон Алонзо с жаром защищал мою сторону и доказывал возможность чуда и сего еще чуднейшего; француз явно противоречил, поляк несколько сомневался, а немец, не держась ничьего мнения касательно мгновенного излечения, не понимал, как может человек, благородное творение, бегать, что собственно предоставлено одним животным. Тут в комнату нашу вошел молодой незнакомый человек в черном кафтане. Он был статен и пригож. На лице его носилась тень скрытой печали. Вид и взор показывали в нем благородного человека, недовольного своею участию. Без околичностей сел он с нами рядом и привел в удивление следующими словами: «Милостивые государи! Я был бы очень несправедлив, если б, удостоясь вашей доверенности и выслушав важнейшие происшествия в жизни каждого, стал о себе таиться. Нет! Я сего не сделаю, и тем более что, оказав вам небольшую услугу, надеюсь удостоиться также и с вашей стороны вспоможения».
Испанец. Вы оказали нам услугу? Разве когда-либо нас знали и делали денежные вклады о избавлении душ наших от чистилищного огня?
Поляк. Это неважно для богатого! А разве иногда замолвя словечко, когда страдала честь Ржечи посполитой[60].
Я. Ни то, ни другое! он избавил вас от междоусобной брани!
Все уставили на него глаза с недоверием, но молодой незнакомец объявил, что он сам и есть прежний хромоногий нищий. Тут начались аханья, вопросы, знаки удивления, особливо женщины наши и француз оказывали сильное любопытство знать более, а все обещали помощь, какая только возможна будет.
– Извольте, – сказал он, – я вас удовольствую. Я не могу ни хвалиться своим происхождением, ни стыдиться оного. Отец мой знатный богатый дворянин, наскуча ежедневными ссорами с женою своею, которая, без лести сказать, была истинный дьявол, вздумал развестись. Немалою к сему причиною было и то, что меньшая дочь ее родилась во время трехгодичного отсутствия его от дому, в которое время родился у него сын от прекрасной Анюты, горничной девушки. Этого сына видите вы перед собою. Когда развод кончился, отец мой предложил руку свою моей матери, но она противу чаяния всего города объявила, что любит в нем человека, а не господина, а потому согласием своим за него выйти не хочет вредить его чести.
Таковое благородное сердце достойно было вознаграждения. Отец мой, отложа мысль о женитьбе, призрел плод любви своей, именно: в московский банк внес на имя Любимова, – так назвали меня, – пятьдесят тысяч рублей. Время юноши шло обыкновенным образом. Мать моя умерла, а вскоре разболелся и отец. Он не хотел обидеть детей прежней жены своей и, разделив им имение, скончался, предоставя довоспитать меня графу Дубинину, лучшему своему приятелю и человеку, им облагодетельствованному, когда еще граф был самый ничего не значущий дворянин.
– Он был человек гордый, надменный, своеобычный! – вскричал я.
– Боже мой! – сказал Любимов. – Вы его знаете?
– Один из приятелей моих имел честь служить у него и за откровенность награжден довольно. Продолжайте!
– Из всего дома, из всего семейства графа Дубинина не нашел я путного человека, кроме одной доброй, невинной чувствительной дочери его Софии. Кто изобразит тот пламень любви, который я к ней почувствовал? Могло ли нежное сердце ее не ответствовать?
Боже мой, каким наслаждались мы благополучием! Но увы! сколь оно было скоротечно! В прекрасные летние ночи, прогуливаясь по тенистым аллеям обширного сада графского, держа один другого в объятиях и при каждом шаге останавливаясь, дабы запечатлеть на губах поцелуй страстный, мы вкушали райские утехи, но ах! – они были для нас пагубны. Софии было осьмнадцать, а мне двадцать лет; итак, могли ли мы быть осторожны в таких случаях? В одну из таковых прогулок она была нежнее обыкновенного, а я пламеннее; и невинность наша улетела.
– Что будем делать? – шептала, вздыхая, София.
– Посмотрим, – отвечал я также со вздохом.
Однако мы, сколько молоды ни были, тщательно скрывали нашу тайну, – и она бы, может быть, осталась тайною навсегда, ибо София клялась ни за кого, кроме меня, не выходить замуж, – но она с ужасом приметила, что лицо ее время от времени делалось бледнее, а тонкий, лилейный стан дороднее. Графиня, или, лучше сказать, ее барская барыня, то приметила и ей объявила, а матери куды входить в такие мелочи?
После сего поднялась в доме суматоха. Призвано пять докторов для освидетельствования болезни, и немец первый, надев очки, придвинулся к лицу больной так близко, что чуть не коснулся его журавлиным своим носом. У нее водяная, – и чтоб не потерять молодой графини, то он сейчас воду выпустит. Тут он с важностию вынул из кармана готовальню, развязал и начал выбирать прямые и кривые ножи.
– Помилуй! – вскричал русский медик, – что ты затеваешь?
София, устрашенная видом инструментов, помертвела, упала на колени и, обратя руки к родителям, вскричала:
– Батюшка! матушка! Пощадите меня. У меня совсем не та болезнь!
– Какая же? Говори!
– Я страстно люблю, страстно любима, – плод любви сей причиною.
Общее молчание. София в обмороке.
Никто не заботился подать несчастной должную помощь. Русский доктор, как человек догадливый, вынул из кармана пузырек со спиртом, подставил под нос Софии, она понемногу опомнилась и зарыдала.
– Батюшка! – сказала она, – любезный мой есть человек достойный! Соедините нас браком, – и мы все счастливы!
– Кто же сие чудовище?
– Если и чудовище, то самое кроткое, самое милое. Это питомец ваш – Любимов!
– Небо! – вскричал граф с яростию и поднял вверх руки.
– А почему же бы и не так? – сказал русский доктор с уверением и дружелюбием.
– Ты не знаешь долгу чести, доктор, и советуешь, чтобы я согласился сыном своим назвать…
– А разве, граф, сообразнее с долгом чести видеть внука своего от всех называемого… – Да разразит меня гнев божий! прежде нежели доживу до сего состояния, погибнет бесчестная мать и дитя истлеет в ее утробе! Хочу…
Все ахнули. Бедная София вздохнула, и вместо чаемого вторичного обморока, следствия раздраженной чувствительности, отчаяние овладело ею; она встала медленно, с величием – ожесточение сверкало подобно раскаленному углю в глазах ее – она произнесла:
– Карай меня, детоубийца! Ты не чувствовал движений моего сердца, преданного тебе с детскою покорностию, так испытай его ожесточение! Я рождена любить безмерно или столько же ненавидеть. Недостойным называешь ты Любимова руки моей? Не потому ли, что я графиня? Кому обязан весь дом наш своим достоинством, графством, блеском, – как не почтенному благодетелю, отцу его? Что значили ничтожные предки наши, пока из праха не воздвигла нас рука благотворная?