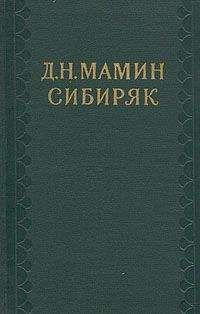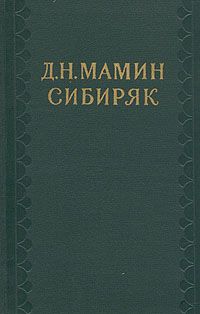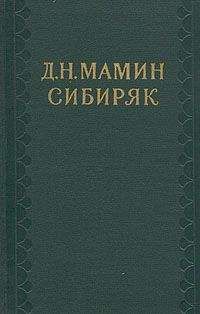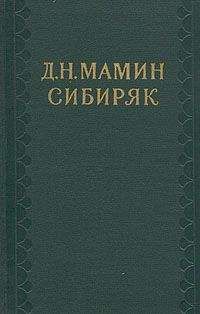Вера Панова - Собрание сочинений (Том 5)
Вышли из леса и увидели незабываемую картину: вслед за нами выливался человеческий поток. Несли детишек, вели скотину, подзывали отстававших собак. Жизнь возвращалась в прежнюю колею.
Навстречу нам шли две женщины. Я спросила:
- Можно идти в Шишаки? Немцы там?
Женщина сказала:
- Та яки там нимцы, там вже наши! - и мы пошли без сомнений.
Шли среди сплошных пепелищ - сожжено было все подчистую. Черные улицы были неузнаваемы. Среди остатков черных стен стояли обгорелые бездыханные трубы. Кое-где люди уже работали кирками и заступами, копали землянки. Кое-где уже сушилось на травке заботливо расстеленное белье. Но вообще людей было мало, должно быть, многие беглецы еще не вернулись в село.
И я остро-остро, словно то была не мимолетная мысль, а удар ножа, ощутила, что то, на что я сейчас смотрю, не просто исторический случай, а частица громадного эпоса, который с годами отольется в песни, былины, картины, романы, в военную и политическую науку, в героические мифы, и в застольные здравицы, и во все то, чем живет, дышит и скрашивает свои дни все человечество, включая меня, и моих детей, и мою старенькую маму, идущую рядом со мной по неровной лесной дороге, где нога ступала то на древесный корень, мостом перекинувшийся через эту дорогу, то на слежавшиеся и отвердевшие, как камешек, опавшие листья, полузатопленные в похожей на зеркальце лужице, то на коровью лепешку, то на мертвого жука, то на неведомо откуда взявшуюся здесь ветку бледно-лилового колокольчика из тех, что выращиваются в холе на ухоженных клумбах нарядного цветника, ветку с большим бубенцом и причудливым извивом стебля, похожего на орнаменты древних наших деревянных строений. Жизнь со всеми своими внезапностями и радостями будто текла нам под ноги, как разворачивающийся ковер, а то мертвое и страшное, что так долго тяготило нас, уходило, будто клочок страшного сна, оно уже догромыхивало где-то вдали последними своими громыханьями, оно рассыпалось в порошок в тех рассказах, которые мы слушали от встречных людей, покуда шли из леса на свои шишакские пепелища.
Мы слушали повесть о том, как сжигали Шишаки и немцы уходили, не оглянувшись на еще одно черное пепелище, оставляемое ими за собой. Но когда выходил на пепелище первый человек, он прежде всего бросался туда, где стояла его лопата, и начинал, как древние его предки, рыть землю, строить землянку для себя и своей семьи, чтобы в подземном затишье пережить свою беду, свою ненависть к разорителям.
Мы слушали рассказы и о том, будто мишенью бывали не только люди, но и скот, молодняк и взрослый, и что с особенным удовольствием фашисты бросали убитых телят в колодцы, чтобы отравить всю жизнь, какая еще оставалась на нашей земле после их ухода. И рассказы о том, как тетка Горпина все это пережила и даже ни словечка этим зверям не сказала, но когда вслед за теленком звери кинули в колодец ее Володьку, закричала Горпина таким голосом, что по всем Шишакам услышали люди этот крик и бросились, забыв страх, к Горпининому дому. И прибежали швидко, но уже ничем помочь не могли - не вернуть Горпине ее Володьки. И даже мертвым она его увидеть не может, дуже глубокий колодец выкопал когда-то покойный Горпинин чоловiк.
Домишко, в котором мы квартировали, тоже был сожжен дотла. Я попробовала открыть тайник, в котором перед уходом спрятала зерно. Это мне удалось, но зерна моего уже не существовало, в истлевших мешочках лежало что-то черное, как уголь, обжигавшее руки, дурно пахнущее и для еды непригодное. Не уцелели и те реликвии, которые я спрятала вместе с хлебом. Не уцелело ничего, кроме нас пятерых, которым негде было приклонить голову.
Признаюсь, в душе у меня не было ни капли надежды, когда я, оставив детей и маму около разоренного тайника, побежала к М. В. Кошевой. Конечно, это привычка потянула меня туда, ведь в этом домике я жила и в первый мой приезд в Шишаки в 1931 году, и в трудные годы войны, и вообще навсегда для меня Шишаки связаны с этим уютным, столь гостеприимным для меня домом, где крыльцо спускалось к трем старым плакучим березам и в кухне на лавке стояла кадушка с опущенным в нее большим ковшом. Я не питала на этот раз никаких надежд и не сразу поверила своим глазам, когда еще издали увидела эти три березы, и знакомую красную железную крышу, и посеревший от времени тын, огораживавший двор. А во дворе на зеленой травке ходили, как раньше, цыплята, а на террасе сидела сама Мария Владиславовна в чистом капоте, встретившая меня словами: "Где все ваши? Я вам оставила половину флигеля". И при этих словах надежда - нет, уверенность хлынула в меня. Ибо я знала, что ни все мы впятером, ни каждый из нас в отдельности не в силах выкопать землянку для жилья, и эти слова М. В. Кошевой были спасением для нас. Оказалось, что, когда пришли к ее воротам немцы, чтобы сжечь ее дом, ей удалось их подкупить какими-то брошками и серебряными ложечками, оставшимися после ее матери, и немцы, покрутившись перед воротами, ушли. И она, оставшись, таким образом, владелицей дома и флигеля, быстро все распределила: сама осталась жить в так называемом "большом" доме (том, перед которым росли березы) и туда же поселила Надежду Владимировну, а во флигеле определила в кухню нашу семью, а в комнату - какое-то совершенно обнищавшее беженское семейство из Харькова. Не знаю, как харьковчане, а в моей семье о Марии Владиславовне до сих пор живет благодарная память, и после войны она писала моим сыновьям, и вышло так, что когда она приехала в Ленинград, продав свой дом шишакским районным учреждениям, и здесь скончалась, то хоронил ее мой младший сын, которого она особенно любила.
Сколько добрых людей вижу я, оглядываясь назад, и никакие житейские беды и разочарования не могут заслонить этих людей...
Плохо было у меня только с топливом. Оно стоило очень дорого, так как людям, жившим в землянках, приходилось тратить его много, и цены на дрова поднялись. Я ходила на постройку нового Дома культуры (старый был сожжен) и подбирала там каждую щепку. На улице подбирали каждую оброненную хворостину. Но где же этим изо дня в день протапливать русскую печь, она требует дров настоящих.
Очень плохо у нас было также с одеждой, особенно с обувью, очень не хватало теплых вещей, мы зябли и часто болели.
Так обстояли наши дела, когда Наташа стала получать письма от отца.
Сразу после изгнания немцев она ему написала в Ленинград по старому адресу, сообщая, что с нею было и где она находится. Письмо получил сосед и написал Наташе, что ее мачеха Галя Беловецкая умерла во время блокады, а отец с дочерью Таней находится в Перми, куда он, сосед, и переслал Наташино письмо.
И вот - хлоп! Пришло письмо из Перми от Арсения, а в письме оформленный по всем правилам вызов в Пермь на имя Наташи и мое.
Помню, меня поразило тогда отношение мальчиков к этому письму. Неизвестно почему, они усмотрели в нем возможность возобновления семейных отношений между мною и Арсением Владимировичем и очень нахохлились. Я их успокоила и убедила, что нужно ехать. Мама тоже согласилась ехать.
Тогда я, взяв вызов, пошла к секретарю райкома партии, славной женщине, и просила ее помощи. Мне нужно было получить пропуск на выезд в Пермь не только для себя и Наташи, но и для всех членов моей семьи. Секретарь отнеслась к моей просьбе с полным пониманием и сочувствием, и я сразу получила нужный мне пропуск на всех нас.
В письме своем Арсений заверял, что в Перми мне будет обеспечена работа в газете.
Примерно в то же время Надежда Владимировна каким-то образом разыскала свою дочь, Надежду Владимировну младшую, и решила ехать к ней в Кировскую область. Мы мечтали выехать из Шишак вместе, но это не удалось, я с семьей уехала раньше.
39
ПЕРМЬ
Подъезжая к Перми, мы видели широкую ледяную Каму, прогрохотали по монументальному мосту. Снова я испытала отрадное чувство, что нечто задуманное исполнено, некая цель достигнута, всех довезла до места живыми и здоровыми, теперь надо постараться, чтобы насколько можно нормальнее устроить их, - как-то это удастся?
Увы! Печально и неласково встретила нас станция Пермь-вторая обледеневшим вокзалом, морозным ветром, желтыми сосульками на вагонах, теснившихся на пути.
По деревянной лестнице, врубленной в снежный откос, мы вышли на широчайший проспект. Далеко друг против друга стояли пятиэтажные новые дома. "Это дома рабочих Мотовилихи", - объяснила встретившая нас новая жена Арсения. Я спросила, не работает ли она на Мотовилихе. Она ответила отрицательно: нет, она работает вместе с Арсением в редакции железнодорожной газеты "Сталинская путевка", она там - корректор. А комнату в этих домах город дал ее отцу, эвакуированному вместе с нею и ее матерью из Москвы, в начале войны.
Морозный ветер дул нам в лицо, мешки за нашими плечами были как каменные, сердце болело за ребят, так покорно тянувших эту тяжесть на своих худеньких спинах. Я обрадовалась, когда мы дошли и Галя (новую жену Арсения звали так же, как и предыдущую) открыла перед нами дверь своей квартиры.