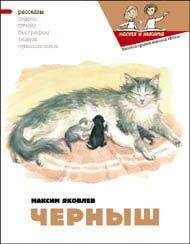Максим Горький - Том 20. Жизнь Клима Самгина. Часть 2
«Бывший человек», — вспомнил Самгин ходовые слова; первый раз приятно и как нельзя более уместно было повторить их. Туробоев пил водку, поднося рюмку ко рту быстрым жестом, всхрапывал, кашляя, и плевал, как мастеровой.
— Вообще — жить становится любопытно, — говорил он, вынув дешевенькие стальные часы, глядя на циферблат одним глазом. — Вот — не хотите ли познакомиться с одним интереснейшим явлением? Вы, конечно, слышали: здесь один попик организует рабочих. Совершенно легально, с благословения властей.
— Да, я знаю, — сказал Самгин. — Но что это значит?
Туробоев пожал плечами, нахмурился, глаза его провалились в глазницы.
— Не понимаю. Был у немцев такой пастор… Штекер, кажется, но — это не похоже. А впрочем, я плохо осведомлен, может, и похоже. Некоторые… знатоки дела говорят: повторение опыта Зубатова, но в размерах более грандиозных. Тоже как будто неверно. Во всяком случае — замечательно! Я как раз еду на проповедь попа, — не хотите ли?
Самгин согласился, надеясь увидеть проповедника, подобного Диомидову, и сотню угнетенных жизнью людей, которые слушают его от скуки, оттого, что им некуда девать себя.
Ехали долго, по темным улицам, где ветер был сильнее и мешал говорить, врываясь в рот. Черные трубы фабрик упирались в небо, оно имело вид застывшей тучи грязнорыжего дыма, а дым этот рождался за дверями и окнами трактиров, наполненных желтым огнем. В холодной темноте двигались человекоподобные фигуры, покрикивали пьяные, визгливо пела женщина, и чем дальше, тем более мрачными казались улицы.
— Стой! Подождешь, — сказал Туробоев, когда поравнялись с высоким забором, и спрыгнул в снег раньше, чем остановилась лошадь.
Красный огонек угольной лампочки освещал полотнище ворот, висевшее на одной петле, человека в тулупе, с медной пластинкой на лбу, и еще одного, ниже ростом, тоже в тулупе и похожего на копну сена.
— Кто будете? — спросил один, другой ответил бабьим голосом:
— Газетчики.
И — сплюнул.
Самгин, спотыкаясь о какие-то доски, шел, наклони голову, по пятам Туробоева, его толкали какие-то люди, вполголоса уговаривая друг друга:
— Тише!
— Н-нет, братья, — разрезал воздух высокий, несколько истерический крик. Самгин ткнулся в спину Туробоева и, приподнявшись на пальцах ног, взглянул через его плечо, вперед, откуда кричал высокий голос.
— Нет, не то мы скажем! Мы скажем: нищета… Густой голос сердито и как в рупор крикнул через голову Самгина:
— Мы, батя, не нищие, — ограбленные, во-от!
— Нищета родит зависть, — мы скажем, — зависть — вражду, но вражда — не закон, вражда — не правда…
— Слышишь? — вполголоса спросили за спиной Самгина.
— Слышу.
— Ну, то-то. Я тебе говорил.
То — звучнее, то — глуше волнообразно колебался тихий говорок, шопот, сдерживаемый кашель, заглушая быстрые слова оратора. В синем табачном дыме, пропитанном запахом кожи, масла, дегтя, Самгин видел вытянутые шеи, затылки, лохматые головы, они подскакивали, исчезали, как пузыри на воде. Впереди их люди тесно сидели, почти все наклонясь вперед, как сидят, греясь пред печкой. Дальше пол был, видимо, приподнят, и за двумя столами, составленными вместе, сидели лицом к Самгину люди солидные, прилично одетые, а пред столами бегал небольшой попик, черноволосый, с черненьким лицом, бегал, размахивая, по очереди, то правой, то левой рукой, теребя ворот коричневой рясы, откидывая волосы ладонями, наклоняясь к людям, точно желая прыгнуть на них; они кричали ему:
— Громче, батя!
— Тише-е!
— Батя, а — скольким идти?
— На Новый год бы, а?
— Тише же!
— Он — человек! — выкрикивал поп, взмахивая рукавами рясы. — Он справедлив! Он поймет правду вашей скорби и скажет людям, которые живут потом, кровью вашей… скажет им свое слово… слово силы, — верьте!
Туробоев упрямо протискивался вперед. Самгин, двигаясь за ним, отметил, что рабочие, поталкивая друг друга, уступают дорогу чужим людям охотно.
— Дальше не пролезем, — весело сказал Туробоев, остановись за спинами сидевших.
Да, рабочие сидели по трое на двух стульях, сидели на коленях друг друга, образуя настолько слитное целое, что сквозь запотевшие очки Самгин видел на плечах некоторых по две головы. Неотрывно, не мигая, он рассматривал судорожную фигурку в рясе; ряса колыхалась, струилась, как будто намеренно лишая фигуру попа определенной, устойчивой формы. Над его маленькой головой взлетали волосы, казалось, что и на темненьком его лице волосы то — вырастают, то — сокращаются. Выгибая грудь, он прижимал к ней кулак, выпрямлялся, возводя глаза в сизый дым над его головою, и молчал, точно вслушиваясь в шорох приглушенных голосов, в тяжелые вздохи и кашель. Самгин уже чувствовал, что здесь творится не то, что он надеялся видеть: этот раздерганный поп ничем не напоминал Диомидова, так же как рабочие совершенно не похожи на измятых, подавленных какой-то непобедимой скукой слушателей проповеди бывшего бутафора.
— Замученные работой жены, больные дети, — очень трогательно перечислял поп. — Грязь и теснота жилищ. Отрада — в пьянстве, распутстве.
— Брось — знаем! — оглушительно над ухом Самгина рявкнул трубный голос; несколько голосов сразу негромко стали уговаривать его:
— Перестань, кочегар…
— Ты — что? Пьяный?
— Помолчи!
— А что он мне болячки бередит.
Самгин осторожно оглянулся. Сзади его стоял широкоплечий, высокий человек с большим, голым черепом и круглым лицом без бороды, без усов. Лицо масляно лоснилось и надуто, как у больного водянкой, маленькие глаза светились где-то посредине его, слишком близко к ноздрям широкого носа, а рот был большой и без губ, как будто прорезан ножом. Показывая белые, плотные зубы, он глухо трубил над головой Самгина:
— Пускай о деле говорит. Жизнь — известна. К чему это — жалости его?
Лицо этого человека показалось Самгину таким жутким, что он не сразу мог отвести глаза от него. Человек был почти на голову выше всех рабочих, стоявших вокруг, плечо к плечу, даже как будто щекою к щеке. Получалась как бы сплошная масса лиц, одинаково сумрачно нахмуренных, и неровная, изломанная линия глаз, одинаково напряженно устремленных на фигуру коричневого попика. Были вкраплены и лица женщин, одни — недоверчиво нахмуренные, другие — умиленные, как в церкви. У одной, стоявшей рядом с Туробоевым, — горбоносое лицо ведьмы, и она все время шевелила губами, точно пережевывая какие-то слишком твердые слова, а когда она смыкала губы — на лице ее появлялось выражение злой и отчаянной решимости. Это было тоже очень жутко, и Самгин подумал, что на месте попа он также вертелся бы, чтоб не видеть этих лиц. Он закрыл глаза. Тогда пред ним вспыхнула ослепительно яркая пещь Омона и эксцентрик-негр, который с изумительной легкостью бегал по сцене, изображая ссору щенка с петухом. Поп все кричал, извиваясь, точно его месили, как тесто, невидимые руки. Вот из-за стола встали люди, окружили, задергали его и, поталкивая куда-то в угол, сделали невидимым. Это напомнило Самгину царя на нижегородской выставке и министров, которые окружали его. Холодная, крепко пахучая духота раздражала ноздри, затрудняя дыхание;
Самгин чихал, слезились глаза, вокруг его становилось шумно, сидевшие вставали, но, не расходясь, стискивались в группы, ворчливо разговаривая. Туробоев попросил кого-то:
— Ты позвони…
— Обязательно.
— Идемте, — сказал Туробоев. Долго и с трудом пробивались сквозь толпу; она стала неподвижней. Человек с голым черепом трубил:
— …Как слепые в овраг. Знать надо!
На улице снова охватил ветер, теперь уже со снегом, мягким, как пух, и влажным. Туробоев, скорчившись, спрятав руки в карманы, спросил:
— Ну, что скажете?
— Не понимаю, — сказал Самгин и, не желая, чтоб Туробоев расспрашивал его, сам спросил: — Вы говорили с рабочим?
— Да. Милейший человек. Черемисов. Если вам захочется побывать тут еще раз — спросите его.
— Я завтра уезжаю. Эсер, эсдек?
— Ни то, ни другое. Поп не любит социалистов. Впрочем, и социалисты как будто держатся в стороне от этой игры.
— Игры? — спросил Клим.
— Вы видели, — вокруг его всё люди зрелого возраста и, кажется, больше высокой квалификации, — не ответив на вопрос, говорил Туробоев охотно и раздумчиво, как сам с собою.
Самгин видел пред собою голый череп, круглое лицо с маленькими глазами, оно светилось, как луна сквозь туман; раскалывалось на ряд других лиц, а эти лица снова соединялись в жуткое одно.
— Кажется, я — простудился, — сказал он. Туробоев посоветовал взять горячую ванну и выпить красного вина.
«Он так любезен, точно хочет просить меня о чем-то», — подумал Самгин. В голове у него шумело, поднималась температура. Сквозь этот шум он слышал:
— Вы скажите брату.