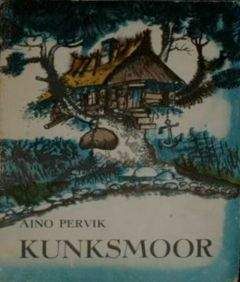Владимир Соллогуб - Избранная проза
— Я дал слово, — сказал он довольно решительно, — слово мое свято, извольте укладываться. Завтра я отвезу тебя к твоей благодетельнице, а послезавтра и покачу молодцом. Да из чего тут, в самом деле, тревожиться?
Еду я всего на четыре месяца. Ты будешь в таком доме, где бы век тебе жить по воспитанию, да и пора было, Настенька. Ты этого, мой светик, не заметила, а тут бог знает в балыкинском доме какой народ живет: не посмотрят, что благородная девушка… а там и ведайся с ними.
При этих словах Настенька побледнела как смерть, голова ее тихо опустилась. Делать было нечего.
Сели обедать. Иван Афанасьевич хотел было развеселиться, да не мог. Шутки его не находили отголоска в душе. Притворный смех оканчивался тяжким вздохом.
Акулина была очень сердита. Настенька молчала. После обеда Иван Афанасьевич ушел к Дмитрию Петровичу хлопотать об инструкции и отпуске.
Как только он ушел, Настенька поспешно выслала Акулину в кухню, а сама бросилась к окну. Стыдиться было уж нечего. Они расстаются; она хотела видеть его, проститься с ним, крикнуть ему, что она его любит, что их разлучают, что не видеть им более друг друга. Сердце ее не предвещало ничего доброго. В балыкинском доме окно было затворено, у окна никого не было.
Дорого бы дала в эту минуту молодая девушка, чтоб окно вдруг отворилось, чтоб перед глазами ее явился сосед с его умоляющим, трогательным видом. Теперь она не мучила бы уж его притворным равнодушием, она бы перебросила ему всю душу свою и нагляделась бы на него, налюбовалась бы им. Окно было затворено: у окна никого не было.
Печально начала Настя прощаться с своей комнаткой, и ей показалось, что ничего не могло быть лучше этой простой, бедной комнатки. Она не понимала, чтоб можно было расстаться с этой комнаткой, от которой он так близко, в которой она так часто о нем думала и не хотела о нем думать. Теперь уж притворяться перед собой нечего: она его любит всеми силами души, она готова ему жизнь отдать. И эту комнатку она должна оставить, эти миленькие ширмы, этот красивый комодец, это незабвенное окно — она все это покинет завтра! Она останется одна, совершенно одна, без комнатки, без Акулины, без доброго отца, который не понимает ее, может быть, но которого она так любит…
Грустно начала она перебирать и укладывать свои вещи. Сперва отобрала она тщательно и связала вместе все свои пансионские воспоминания: тетрадки, записки обожаемых девиц, нежные и строго запрещенные стишки, наскоро написанные мелкими буквами, несколько плохих рисунков с заветными вензелями. Потом уложила она свои изорванные книжки, все исписанные по полям восторженными восклицаниями: «божественная», «несравненная» и тому подобное; потом отложила она в сторону образа свои — наследие матери и благословение отца; потом начала складывать свои скромные наряды и вдруг остановилась со вздохом и улыбкой. Вот платье, которое было на ней во время памятной поездки по железной дороге. В этом платье она говорила с ним в первый раз, в первый раз почувствовала мучительную и сладкую тревогу. Кто бы мог подумать тогда, что эта тревога сделается ее постоянным занятием, ее никогда не покидающей мыслью.
И снова подошла она к окну и снова начала глядеть на ту сторону улицы, стараясь чудной силой воли отворить это безжалостное окно и вызвать нежное лицо любимого для последнего, страстного, безнадежного прощанья.
Окно не отворилось. По щекам Насти слезы покатились градом.
Так прошел целый вечер.
Иван Афанасьевич возвратился поздно домой. Дмитрий Петрович успел уж выхлопотать для него у директора отпуск, взял для него место на другой же день в вечерний дилижанс и оказал неимоверную деятельность в чужом деле. Иван Афанасьевич не прекословил и повиновался всему, как ребенок.
На другой день он отвез дочь к графине. Графиня осмотрела Настеньку с ног до головы и, по-видимому, осталась довольна. Она сказала ей несколько ласковых слов, сама отвела ее в назначенную для нее комнату и озаботилась, чтоб в комнате было все, что нужно. После этого графиня ушла, сказав, что при прощании она лишняя, что дома она не обедает, а что если Настеньке не будет скучно, то она желала бы, чтоб Настенька пришла к ней вечером разливать чай, как то делала прежняя ее воспитанница. Сказав все это, она поручила себя благорасположению сконфуженного Ивана Афанасьевича и отправилась по визитам, а потом на какой-то званый обед.
Комната Настеньки была чудом роскоши в сравнении с той, с которой она только что рассталась. Большие шелковые занавесы (правда, полинялые) украшали окна. Ковер весь истерся, а мебель тускло отсвечивала почерневшей позолотой.
Настенька глядела печально на все эти жалкие лохмотья отставного богатства, попавшие сюда только потому, что их девать было некуда.
Наступила минута прощанья.
Иван Афанасьевич начал было говорить Настеньке, чтоб она угождала графине, не забывала писать к нему и молилась богу, но он не мог окончить своего наставления, заикнулся и зарыдал как ребенок. Настенька бросилась к нему на шею, и так стояли они, смешивая свои слезы, долго не будучи в силах выговорить ни слова.
— Настенька, — начал шептать, рыдая, старик, — радость моя… светик ты мой!.. Видит бог… не ты бы… не поехал бы я. Да как не ехать, моя душенька… это для твоего же блага. Все будет к лучшему; не забывай только старика, пиши почаще. А мне для здоровья вояж полезен. Доктор приказал: все-де жизнь веду сидячую.
Увидишь, каким молодцом приеду… Ну, прощай, успокойся, мой дружок… На… Настенька ты моя!
— Не оставляйте меня здесь долго, — жалобно стонала Настенька, — мне страшно здесь…
— Ну, ну, перестань же… Господь с тобою. Скоро увидимся. Благослови тебя господь.
Иван Афанасьевич прижал снова дочь свою к груди, перекрестил ее поникшую голову и выбежал, не оглядываясь, из комнаты.
Настенька почти без чувств упала в кресла.
Долго оставалась она так, без движения и почти без мысли.
В голове ее все смешивалось в темный, неопределенный хаос. То слышался ей веселый лепет подруг молодости, то стук железной дороги, то страстный голос белокурого соседа, то прощальные слова старика. Она вдруг нежданно, внезапно была отторгнута, отделена от всего, к чему привыкла. Душа ее словно осиротела. Она боялась гордых стен своего нового жилища; она боялась графини и чувствовала, что ласка графини так же лжива, как и лицо.
День прошел в грустном одиночестве. В десять часов вечера вошла в комнату горничная и объявила довольно грубо, что графиня просит к себе чай разливать.
Настенька вздрогнула. Машинально встала она с места и отправилась на зов.
Графиня сидела в тускло освещенном кабинете, за ширмами, у ломберного стола, и играла в карты с Клеопатрой Ильиничной и каким-то сладким господином. При появлении своей новой собеседницы графиня приятно улыбнулась и сказала несколько приветливых слов, но Настенька ничего не расслышала, кровь хлынула к ее сердцу; она едва удержалась на ногах. Подле кресел графини, щегольски одетый и поникнув белокурой головой, сидел он, он сам, тот, с которым она только что простилась в душе навек! Он тоже вскочил с места, бледный и трепетный, едва переводя дыхание.
— Настасья Ивановна, — сказала графиня, — позвольте мне представить вам внука моего, князя Андрея.
Молодой человек неловко поклонился и выговорил с трудом несколько бессвязных слов; но взоры его придали им смысл. Настенька покраснела по уши и бросилась к самовару.
— Игра в червях, — торжественно объявила Клеопатра Ильинична.
— Пас! — вымолвил, улыбаясь, сладкий господин.
— Какие вы несносные, Клеопатра Ильинична! — сказала графиня. — У вас всегда огромные игры, а у меня вечно семерки.
Графиня, как все старухи, не любила проигрывать.
V
Старушка нашего времени и молодость всех времен
Европейское просвещение перемешало у нас некоторым образом сословия и даже возрасты. Теперь все светские люди одних лет: молодые чересчур стары, старые чересчур молоды, бабушки пожимают руки корнетам, дедушки курят пахитосы с своими внучками. Над всеми владычествует общий салонный уровень, все одеты одинаково, все проводят время одинаково, все озабочены тем же ничем. Только на иных вид действительной молодости, на других декорация молодости, обман в пользу приличия.
Не знаю, надо ли жалеть о старине; но как, скажите, не пожалеть о наших прежних маститых стариках, составлявших во время оно лучшую опору нашей народной патриархальности? Как не пожалеть о добрых наших старушках, которые берегли семейственность и долговечным примером, благочестивой жизнью охраняли в обществе спасительные начала нравственности?
Роль старушки исчезает у нас с каждым днем. Мы дожили до эпохи странной снисходительности ко всему молодому и бережно скрываем свои года, совестимся своих морщин. Мы малодушно потворствуем легковерию века. Теперь мы все молоды, чересчур молоды, непростительно молоды, но молоды, впрочем, не той живой и здоровой молодостью, которая играет отвагой и силой: мы молоды болезненной молодостью, требующей игрушек и рассеяния, а не свежей мысли, не полезного дела.