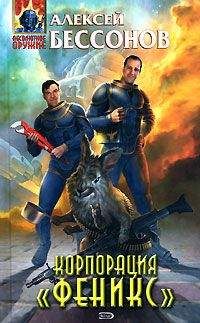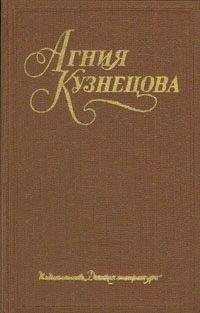Рустам Гусейнов - Ибо прежнее прошло (роман о ХХ веке и приключившемся с Россией апокалипсисе)
- Да ведь монастырей-то уж нет давно, Иван Сергеевич, вздохнув, заметил Глеб.
- Будут. Еще обязательно будут - в этом не сомневайтесь. Ведь вы же верите - Христос придет к нам не для того, чтобы карать человечество. А, значит, к приходу его мы сами должны будем выздороветь духом. И сегодняшние страдания наши - горькое лекарство, служащее к выздоровлению.
- Так что же, радость эта - и была материальный прорыв? напомнил Глеб о теме разговора.
- О, нет, - покачал головою Гвоздев. - У этой травы есть одно странное свойство - подозреваю, химикам будет непросто его объяснить. Она, чем далее, тем как бы более дает тебе. Ты можешь выпивать по бутылке водки неделю подряд, и во всю эту неделю ничего, кроме тупого, свинячьего веселья, бутылка не принесет тебе. Тут все совсем по-другому. Для того состояния, в котором оказываешься ты, покурив коноплю, менее всего подходит слово тупость. И отправляя себя в это состояние, ты сам еще не знаешь точно, куда ты отправляешься в этот раз. Ты можешь оказаться вдруг в мире простой и бессмысленной детской радости. Ты можешь оказаться в мире невиданных плотских наслаждений. Тарелка холодного вчерашнего борща доставит тебе такое блаженство, которого не испытаешь, хоть созови ты к себе на кухню лучших поваров со всех континентов. И как бы постепенно ты продвигаешься вперед по ступеням материального наслаждения. Но пока что, так или иначе, ты все еще находишься в этом мире. Ты просто получаешь от него максимум удовольствий.
Я начал задумываться после пятой или шестой самокрутки. Я не мог понять ничего. Что же за чудо растет для нас на этой Земле? Почему все люди не знают о нем? Если радость в этом мире так легко получить, если блаженство доступно каждому, у кого есть в кармане спички, то что такое тогда этот мир? Чем мы занимаемся в нем? Мы зарабатываем деньги, чтобы получать удовольствие. Но ни за какие деньги мы не купим себе столько удовольствий. Вот оно растет под ногами - удовольствие. Возьми его даром, и не придет к тебе даже похмелье. Я справился у нашего доктора, не приносит ли это вреда здоровью. Он отвечал, что таджики курят это с пяти и до девяноста лет - почти что все, включая беременных женщин. И никаких патологий он не замечал. Но почему тогда весь мир не курит этого? И что же такое - карма, если от любого страдания так просто уйти человеку?
Я чувствовал, что не понимаю чего-то важного. Я принялся наблюдать за другими и за собой. Я заметил прежде всего, что это действует на всех по разному. У нас в экспедиции многие покуривали. Таджики-землекопы, работавшие с нами, курили все. Исподволь я стал расспрашивать их. Обнаружилась прежде всего явная закономерность: чем умнее человек, чем более он интеллектуально развит, тем сильнее это действует на него. Ничего особенного, уж, не говоря, сверхъестественного, таджики наши от гашиша не ощущали. Они просто работали веселей. Я спрашивал их - могут ли они обходиться без него? Могут, отвечали они, но зачем? И в то же время один парнишка из нашего института - очень толковый парнишка по имени Гера - любитель живописи и сам неплохой художник - за какие-нибудь полгода совершенно переменился. Работа перестала его интересовать, с ним все скучнее становилось разговаривать. Разного рода возвышенные идеи, которыми некогда охотно делился он с первым встречным, больше не волновали его. Работал он теперь лишь в ожидании конца рабочего дня.
Наблюдая за самим собой, я научился отчасти регулировать свое состояние. Я обнаружил, что состояние это во многом зависит от того, чем ты занимаешься в нем. Этой травой, оказалось, возможно было обострять не только восприятие плоти, но и восприятие разума. Если, например, покурив, я брался читать книгу, я замечал в ней то, что никогда не замечал раньше: я видел все - значительные и незначительные повороты авторской мысли, мимо внимания моего не проходил ни один логический огрех - я словно бы шаг за шагом, фраза за фразой соучаствовал в разумном процессе написания ее, словно бы проникал внутрь техники письма. Но если книга эта была художественной литературой, я совершенно не способен оказывался воспринять ее в целом - ни даже уловить смысла отдельной главы - о чем, для чего написана была она? Я заметил еще, что в этом состоянии я совершенно терял способность различать красоту. Я может быть, еще не формулировал это тогда так определенно, но я ясно видел, что мне решительно все равно было, где находился я в этом состоянии, что видел вокруг себя. Какая-нибудь грязная канава могла показаться мне совершенным творением природы; убогий покосившийся сарай - величием архитектурной мысли.
Однажды в воскресенье оказавшись в Ленинабаде, я выкурил самокрутку и пошел на спектакль местного драмтеатра. Давали "Бесприданницу" Островского. Представьте, я не читал ее до того, и я не понял, ни о чем эта пьеса, ни в чем смысл ее, ни хороша она или плоха. Может быть, с тем же успехом я мог бы просмотреть постановку учебника по математике. Но что же было со мной? - при всем при этом я успел до мелочей, до жеста, до улыбки, до цвета обивки на стульях, до количества цветов в вазе, рассмотреть в этом спектакле все, касавшееся процесса его создания. Я, не задумываясь, указал бы каждому актеру на всякое неверное движение или взгляд его, указал бы режиссеру - где, когда и что именно надо изменить ему в построениях спектакля в расположении актеров на сцене, в направлениях их передвижений, я указал бы Островскому, какие слова в той или иной реплике надо бы поменять местами, чтобы звучали они выразительней, я указал бы осветителю, когда и куда неправильно направил он прожектор. Без малейших усилий каждую секунду я расчленял этот спектакль на составные части техники его - всего того, что делалось в нем разумом. Но я не заметил в нем ничего, что делало или могло бы делать его художественным произведением - произведением искусства. Четкая, отлаженная работа моего мозга доставляла мне огромное удовольствие. Но ни сопереживать коллизиям сюжета, ни вздыхать, ни смеяться, подобно прочим зрителям, я не мог совершенно. Мне пришла тогда в голову мысль, что, может быть, все это мне только кажется. И в тот месяц я сходил на этот спектакль еще дважды. Один раз - покурив, и вооружившись карандашом и чистым блокнотом. Другой раз - не куря, и с блокнотом этим, исписанным от первой до последней страницы. Все было верно. Я видел, что любой театральный критик позавидовал бы моей способности расчленить ткань спектакля и отыскать в ней мельчайший огрех, но я видел при этом, что никому такая критика не была бы ни нужна, ни интересна. Потому что не касалась она ничего действительно важного и значимого в нем - достоинств и недостатков, которые составляли бы его художественную ценность.
Я начал кое-что понимать. Я начал понимать, что это трава каким-то образом совершенствует нашу нервную ткань, всю ее включая и мозг, но взамен постепенно забирает душу. Я начал понимать, что затягивает она не плоть, не биологию нашу, как водка, она затягивает разум. И в полную противоположность водке, затягивает тем сильнее, чем более развит человек. Я решил тогда, что надо кончать. Я решил для начала хотя бы ограничивать себя - не курить часто, но вдруг увидел, что мне это нелегко. Возвращаясь с работы, я ложился на кровать, брал в руки книгу, читал, но после третей страницы начинал замечать, что я лишь бегаю глазами по строчкам, а мысли мои все там - в тумбочке возле кровати, где лежат набитый травой портсигар и спички. Усилием воли приходилось мне заставлять себя читать строчку за строчкой, абзац за абзацем; и удивительно - читать добротную художественную литературу, особенно же стихи, которые всегда я очень любил, теперь оказывалось мне невыносимо скучно. Так ли, иначе, я мог читать еще детективы, либо специальные книги. Я мог работать, писать, но и работа оказывалась мне не в радость. При этом я не чувствовал в своем теле ничего, решительно ничего, что мешало бы мне читать, работать, отдыхать - жить, как прежде. Но я бросал перо и уходил из палатки своей к друзьям, к коллегам, целыми вечерами надоедал им, донимал научными или пустыми разговорами - только, чтобы не возвращаться к себе, к тумбочке, которую так просто было открыть.
Как-то, после работы зайдя в палатку к Гере, я застал его там за скручиванием самокрутки. Я спросил его несколько раздраженно:
- Ты что, не можешь уже ни дня без этого обойтись?
- Я могу, - пожав плечами, отвечал он мне то же, что и таджики. - Но зачем?
А у меня еще не было тогда слов - ответить ему, зачем.
- Скажи, ты можешь писать картины оттуда? - спросил я вдруг.
- Я и пишу, - ответил он. - Я пишу гораздо лучше. Я точно знаю, как надо класть каждый мазок.
- Покажи, - попросил я его.
И он показал.
Это были картины филигранные по технике исполнения. Он действительно никогда не писал так раньше. Но, Боже мой, насколько же пустые это были картины! Их трудно было даже назвать картинами. Это были - работы, настолько ничего не вызывали они в душе, настолько ни о чем не говорили, кроме того, что автор их владеет блестящей техникой.