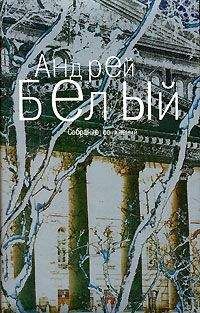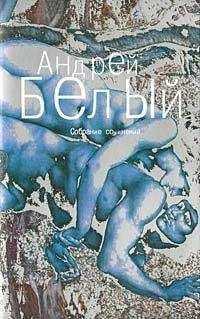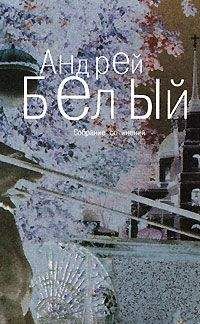Андрей Белый - Том 2. Петербург
— «Меня досаждают: ну и — взгляды, намеки, расспросы… Были даже…»
Рот его скучающе разорвался в зевоте; и расстегивая свой жилет, недовольно пробормотал себе в нос:
— «Ну и к чему эти сцены?»
— «Были даже угрозы по вашему адресу…»
Пауза.
— «Ну и понятно, что спрашиваю… Чего раскричались-то? Что такое я сделала, Коленька?.. Разве я не люблю?.. Разве я не боюсь?»
Тут она обвилась вокруг толстой шеи руками. И — хныкала:
— «Я — старая женщина, верная женщина…»
И он видел у себя на лице ее нос; нос — ястребиный; верней — ястребинообразный; ястребиный, если бы — не мясистость: нос — пористый; эти поры лоснились потом; два компактных пространства в виде сложенных щек исчертились нечеткими складками кожи (когда не было уж ни крема, ни пудры) — кожи, не то, чтобы дряблой, а — неприятной, несвежей; две морщины от носа явственно прорезались под губы, вниз губы эти оттягивали; и уставились в глазки глаза; можно сказать, что глаза вылуплялись и назойливо лезли — двумя черными, двумя жадными пуговицами; и глаза не светились.
Они — только лезли.
— «Ну, оставьте… Оставьте… Довольно же… Зоя Захаровна… Отпустите… Я же страдаю одышкой: задушите…»
Тут он пальцами охватил ее руки и снял с своей шеи; и опустился на кресло; и тяжело задышал:
— «Вы же знаете, какой я сантиментальный и слабонервный… Вот опять я…»
Они замолчали.
И в глубоком, в тяжелом безмолвии, наступающем после долгого, безотрадного разговора, когда все уже сказано, все опасения перед словами изжиты и остается лишь тупая покорность, — в глубоком безмолвии она перемывала стакан, блюдце и две чайные ложки.
Он же сидел, полуотвернувшись от чайного столика, подставляя Зое Захаровне и грязному самовару свою квадратную спину.
— «Говорите, — угрозы?»
Она так и вздрогнула.
Так и просунулась вся: из-за самовара; губы вновь оттянулись: обеспокоенные глаза чуть не выскочили из орбит; обеспокоенно побежали по скатерти, вскарабкались на толстую грудь и вломились в моргавшие глазки; и — что сделало время?
Нет, что оно сделало?
Светло-карие эти глазки, эти глазки, блестящие юмором и лукавой веселостью только в двадцать пять лет потускнели, вдавились и подернулись угрожающей пеленой; позатянулись дымами всех поганейших атмосфер: темно-желтых, желто-шафранных; правда, двадцать пять лет — срок немалый, но все-таки — поблекнуть, так съежиться! А под глазками двадцатипятилетие это оттянуло жировые, тупые мешки; двадцать пять лет — срок немалый; но… — к чему этот выдавленный кадык из-под круглого подбородка? Розовый цвет лица ожелтился, промаслился, свял — заужасал серой бледностью трупа; лоб — зарос; и — выросли уши; ведь бывают же просто приличные старики? А ведь он — не старик…
Что ты сделало, время?
Белокурый, розовый, двадцатилетний парижский студент — студент Липенский, — разбухая до бреда, превращался упорно в сорокапятилетнее, неприличное пауковое брюхо: в Липпанченко.
Невыразимые смыслыКуст кипел… На песчанистом побережье здесь и там морщинились озерца соленой воды.
От залива летели все белогривые полосы; луна освещала их, за полосой полоса там вскипала вдали и там громыхала; и потом она падала, подлетая у самого берега клочковатою пеной; от залива летящая полоса стлалась по плоскому берегу — покорно, прозрачно; она облизывала пески: срезывала пески — их точила; будто тонкое и стеклянное лезвие, она неслась по пескам; кое-где та стеклянная полоса доплескивалась до соленого озерца; наливала в него раствор соли.
И уже бежала обратно. Новая громопенная полоса ее бросала опять.
Куст кипел…
— Вот — и здесь, вот — и там, были сотни кустов; в некотором отдалении от моря черные протянулись и суховатые руки кустов; эти безлистные руки подымались в пространство полоумными взмахами; черноватенькая фигурочка без калош и без шапки испуганно пробегала меж них; летом шли от них сладкие и тиховейные лепеты; лепеты позасохли давно, так что скрежет и стон подымались от этого места; туманы восходили отсюда; и сырости восходили отсюда; коряги же все тянулись — из тумана и сырости; из тумана и сырости пред фигурочкой узловатая заломалась рука, исходящая жердями, как шерстью.
Уж фигурка склонилась к дуплу — в пелену черной сырости; тут она задумалась горько; и тут в руки она уронила непокорную голову:
— «Душа моя», — встало из сердца: — «душа моя, — ты отошла от меня… Откликнись, душа моя: бедный я…»
Встало из сердца:
— «Пред тобою паду я с разорванной жизнью… Вспомни меня: бедный я…»
Ночь, проколотая искрометною точкою, совершалась светло; и подрагивала чуть заметная точечка у самого горизонта морского; видно, близилась к Петербургу торговая шхуна; из прокола ночного вызревал огонек, наливаяся светом, как созревающий колос, усатый лучами.
Вот уж он превратился в широкое, багровое око, за собой выдавая темный кузов судна и над ним — лес снастей.
И над черненькой унывавшей фигуркой, навстречу летящему призраку, подлетели под месяцем деревянные, многожердистые руки; голова кустяная, узловатая голова протянулась в пространство, паутинно качая сеть черненьких веточек; и — качалась на небе; легкий месяц в той сети запутался, задрожал, ослепительней засверкал: и будто слезою облился: наполнились фосфорическим блеском воздушные промежутки из сучьев, являя неизъяснимости, и из них сложилась фигура; — там сложилось оно — там началось оно: громадное тело, горящее фосфором с купоросного цвета плащом, отлетающим в туманистый дым; повелительная рука, указуя в грядущее, протянулась по направлению к огоньку, там мигавшему из дачного садика, где упругие жерди кустов ударялись в решетку.
Фигурочка остановилась, умоляюще она протянулась к фосфорическим промежуткам из сучьев, слагающим тело:
— «Но позволь, позволь; да нельзя же так — по одному подозрению, без объяснения…»
Повелительно рука указывала на световое окошко, простреливающее черные и скрежещущие суки.
Черноватенькая фигурка тут вскрикнула и побежала в пространство; а за нею рванулось черное суковатое очертание, складываясь на песчанистом берегу в то самое странное целое, которое могло выдавить из себя чудовищные, невыразимые смыслы, не существующие нигде; черноватенькая фигурка ударилась грудью в решетку какого-то садика, перелезла через забор и теперь беззвучно скользила, цепляясь ногами о росянистые травы, — к той серенькой дачке, где она была так недавно, где теперь — все не то.
Осторожно она подкралась к террасе, приложила руку к груди; и беззвучно она, в два скачка, оказалась у двери; дверь не была занавешена; фигурочка тогда приникла к окну; там, за окнами, ширился свет.
Там сидели… —
— На столе стоял самовар; под самоваром стояла тарелка с объедками холодной котлеты; и выглядывал женский нос с неприятным, сконфуженным, немного придавленным видом; нос выглядывал робко; и — робко он прятался: нос — ястребиный; колыхалася на стене теневая женская голова с короткой косицей; эта жалкая голова повисала на выгнутой шее. Липпанченко одной рукой облокотился на стол; другая рука лежала свободно на кресельной спинке; грубая, — отогнулась и разогнулась ладонь; поражала ее ширина; поражала короткость пяти будто бы обрубленных пальцев, с заусенцами и с коричневой краскою на ногтях…
— Фигурочка в два скачка отлетела от двери; и — очутилась в кустах; ее охватил порыв неописуемой жалости; кинулась безлобая, головастая шишка — из дупла, под двумя суками к фигурочке; застонали ветра в гниловатом раструбе куста.
И фигурочка ожесточенно зашептала под куст:
— «Ведь нельзя же так просто… Ведь как же так… Ведь еще ничего не доказано…»
Лебединая песняПовернувшись всем корпусом от вздохнувшей Зои Захаровны, Липпанченко протянул свою руку — ну, представьте же! — к тут на стенке повешенной скрипке:
— «Человек на стороне имеет всякие неприятности… Возвращается домой, отдохнуть, а тут — нате же…»
Он достал канифоль: просто с какой-то свирепостью, переходящей всякую меру, — он накинулся на кусок канифоли; с наслаждением он взял промеж пальцев кусок канифоли; с виноватой гримаскою, не подходящей нисколько к его положению в партии, ни к только что бывшему разговору, он принялся о канифоль натирать свой смычок; после он принялся за скрипку:
— «Можно сказать, — встречают слезами…»
Скрипку прижал к животу и над ней изогнулся, упирая в колени ее широким концом; узкий конец он вдавил себе в подбородок; он одною рукой с наслаждением стал натягивать струны, а другою рукой — извлек звук:
— «Дон!»
Голова его выгнулась и склонилась набок при этом; с вопросительным выражением, не то шутовским, не то жалобным (младенческим как-никак), поглядел он на Зою Захаровну и причмокнул губами; он как будто бы спрашивал: