Федор Сологуб - Том 5. Литургия мне
— А где же Катя?
И темнеют вдруг лица ее милых, и говорит кто-то из них:
— Кати нет. Катя умерла. Разве ты забыла, что Катя умерла.
— Катя умерла, — шепчет Маргарита.
Ах, скучный день опять отяготел над нею, и опять веселый газ в ярких лампах дразнит ее своею ненужною ясностью, своею беспощадною веселостью.
Молодой гладкий человек сделал все что надо. Он говорит Маргарите из-за решетки:
— Сударыня, вам готово.
Маргарита подходит к решетке и берет из рук молодого гладкого человека синенький тонкий листочек, на котором написано, что надо заплатить в кассу одиннадцать рублей с копейками. Гладкий молодой человек говорит:
— В кассу и обратно.
Маргарита торопливо идет в кассу платить деньги. Мальчик зачем-то скользит мимо нее куда-то по серым матам конторы, — пожилой, полный немец с веселым лицом и солидною лысиною на голове разговаривает с дамою в дорогих мехах и в меховой громадной шляпе, — какой-то толстяк неспешно поднимается по лестнице вверх, в отделение аккредитивов и переводов за границу, — решетки, кассы, конторки, газ, — все это прочное, солидное, незыблемое говорит ей беззвучным, но внятным языком всесильных, над человеком вечно господствующих вещей, что все неизменно, навсегда предопределено, — что нет на свете неожиданных радостей, — что на их долю никогда не выпадет крупного выигрыша, — что каждому из них навеки суждено томиться, изнывая за скучным и скудным трудом.
Маргаритино лицо вяло и бледно, и ее плоская грудь, кажется, совсем не дышит, когда она подходит к полукруглому в тяжелой частой решетке окошечку кассы и протягивает плотному, седому кассиру ордер об уплате. Опять роется в кошельке и послушно исполняет главную обязанность клиента банкирской конторы «Клопшток, Ленц и Ко», — платит деньги, сосчитанные и проведенные по книгам конторы.
Заплатила. Стукнул штемпелем «уплачено». Маргарита идет обратно. Гладкий молодой человек возвращает ей квитанцию, и на оборотной стороне квитанции, в конце длинного ряда отметок о перезалоге, Маргарита видит новую, сегодняшнюю отметку. Маргарита думает, что это не последняя отметка, и ей опять становится холодно, томно к скучно.
Маргарита вышла на улицу. Уже везде были огни, и громадные шары на верхах чугунных некрасивых столбов светились ярко, мертво и нагло. И все на улице было смешением ярких пятен света и провалов в тьму, смешением шумной, наглой нарядности и убогой нищеты. И все было сковано мертвым, злым морозом.
Злой мороз пробирался сквозь плохую Маргаритину одежонку, жался к ее худенькому, длинному и тощему телу и заставлял ее идти все быстрее и быстрее. Было странное несоответствие между ее легкой, точно радующейся походкою и ее неподвижно унылым, безрадостным лицом.
Вдруг улыбка счастливой надежды мелькнула на Маргаритиных губах. Знакомое лицо из толпы стало перед нею, — молодой человек в меховом пальто с барашковым воротником.
— Михаил Александрович! — радостно воскликнула Маргарита. — Вы нас совсем забыли.
Михаил Александрович Сюргучев, казалось, был смущен неожиданною встречею. Его рука в серой мягкой перчатке потянулась к котелку, потом он стащил перчатку, пожал Маргаритину руку и говорил сконфуженно:
— Вот все собираюсь к вам, да все некогда, не собраться. Как здоровье вашей маменьки? Как вы поживаете, Маргарита Константиновна?
Его рыжеватые усики топорщились над неровно вздрагивающею верхнею губою, и непонятно было, отчего это вздрагивает так его губа, от холода или от смущения. Его серо-стальные глаза бегали, и он весь как-то пригнулся, и даже уши его каким-то заячьим движением прижались к причесанным гладко-гладко волосам.
И смущение его передалось Маргарите. Лицо ее опять поблекло, и она тусклым голосом сказала:
— Ничего, благодарю вас. Вам не по дороге? Пройдемте немного.
Робкая, почти безнадежная мольба засветилась на минуту в ее синих, покорных глазах. Конечно, только затем, чтобы сейчас же потухнуть.
Михаил Александрович бормотал:
— Простите, сейчас не могу, тороплюсь. У меня тут дело есть очень спешное, так уж я побегу. До свидания, Маргарита Константиновна. Почтение вашей матушке. Поклон Евгении Константиновне.
Он торопливо совал Маргарите свою быстро покрасневшую на морозе без перчатки руку.
— Заходите, — коротко и робко сказала Маргарита.
Точно боялась почему-то сказать лишнее слово. Задержала его руку.
— Непременно, непременно, как же, сочту долгом, как только выдастся свободный часок.
И Михаил Александрович вырвал почти грубым движением свою руку из бледных, тонких Маргаритиных пальцев и помчался трясущеюся виноватою походкою, исчезая в толпе.
Маргарита постояла на углу улицы, глядя ему вслед, и пошла дальше. И опять лицо ее стало как бледная маска безнадежного уныния.
Тусклые мысли пробегали в ее голове. Вспомнила, как был у них последний раз Михаил Александрович. Говорил ей любезности и так смотрел на нее, как смотрят влюбленные, нежным, похожим на страстный поцелуй взором.
Прощаясь, долго и нежно целовал ее руку. А когда он ушел, Константин сказал досадливо:
— Съел всю халву начисто.
Смеялись тогда и ласково глядели на Маргариту.
О, скудная, жадная жизнь! Всякую мгновенно мелькнувшую надежду торопишься ты отнять и опозорить. Глупое сердце жаждет обманов и утешений, — глупое сердце, замолчи! Радости для тебя не будет, — и не придет влюбленный, не выпадет на билет главный выигрыш, — и все всегда будет так, как было, безнадежно, тускло, темно, словно зачарованное навеки очарованием уныния, бессилия и печали.
Приложение
Максимилиан Волошин. Федор Сологуб «Дар мудрых пчел»
Мертвенным совершенством веет от трагедии Сологуба. Законченность, тяжелое богатство и значительность речи приводят на память золотые лепестки погребальных венцов и золотые маски, найденные на таинственных трупах в гробницах микенских, золото — хранящее в себе едкую память о судьбе Атридов. Золото подобает мертвым.
И кажется, что поэт говорит пришлецу, зачарованному зрелищем богатств, раскрытых пред ним:
«Милый гость, познай истину, одну из многих, открываемых за завесами восторга силою, обличающей противоречие мира, — Иронией, — познай эту истину: мертвое вино и мертвые яства на моем столе».
Его речи как цветы на берегах Леты: цветы вечные, не рождающие, и мертвый аромат их — веяное забвение.
Кому, как не Сологубу, знать тайны области невозвратного, тайны царства Аидова, скрытого тремя стенами, тремя черными завесами мрака?
Печальные места, лишенные ясного неба и светлой дали. Там все туманно и мглисто, все кажется плоским и неподвижным, точно является тенью на экране. Там воды Леты шумят:
«Забвение, забвение, в наших волнах пейте вечное забвение. Сладчайшие имена тонут в моих шумных волнах; сладчайшее забудется или вожделеннейший погрузится образ в забвение, забвение, вечное забвение».
Но мудрая змея говорит: «Нет забвения».
В эту область, «озаренную безрадостными созвездиями неподвижных молний, рождаемых вечным трением янтарных смол», нисходят скорбные тени героев, погибших «за бедный призрак красоты, за изменчивую земную личину небесной очаровательницы».
Весь туманный и еле зримый сидит на престоле Аид, и рядом с ним тоскует на троне Персефона весеннею скорбью земли («Или и вечность не истощает ваших мирообъемлющих печалей, бессмертные боги»).
Далекий вопль Прометея грозит богам светлого Олимпа:
«Расторгну оковы, и ты погибнешь, неправедный».
А змея говорит: «Боги трепещут, но смеются».
Персефона тоскует по золотым стрелам солнца, по золотом мече жизни:
«Все к нам приходят, как домой приходят все. Приходят все неволею». Эхо повторяет: «неволею»… но тихий шелест камышей, как отзвук эхо, говорит: «волею»…
Темной иронией, «обличающей противоречия мира», звучат эти чередующиеся речи. Двусмысленные и вещие слова слышатся в ответ на вопли Персефоны.
«Только мертвые приходят к нам»…
— Придет и Он, — говорит змея.
«От нас никто не найдет дороги»…
— Восстанет… воскреснет… шелестят камыши.
Нет забвения Лику. Нет забвения любви. Любовь нарушит законы смерти, смертью смерть победит. Текучие образы жизни, расплывающиеся в смертной мгле, не исчезают. Преходящий и тающий лик жизни вечен в любви.
* * *«Вздыхая о златокудром метателе стрел и его золотых, светлою мудростью напоенных пчелах, ты, великая царица, забыла тающий от огня дар мудрых пчел — воск. Как воск, тают личины, Персефона, видишь ли ты Лик?», — говорит весенней владычице подземного царства Протесилай, погибший у Трои первым из героев ахейских. В сердце его лик Лаодамии, которому нет забвения.

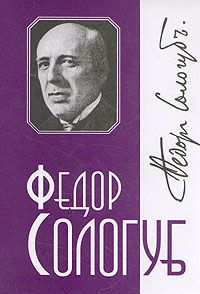
![Гарольд Пинтер - Лифт [= Кухонный лифт]](/uploads/posts/books/271557/271557.jpg)
