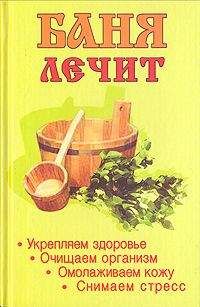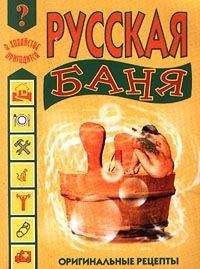Александр Куприн - Голос оттуда: 1919–1934
Французский крестьянин, кроме того что хитер, он еще и умен своим коллективным, земляным умом. Клемансо однажды сказал: «Победил Германию не только наш героический солдат, но и наш крестьянин, который давал нам самоотверженно и хлеб, и деньги, и людей».
Золотые слова. Но надо учитывать и то, что давал он так охотно еще и потому, что понимал всю невыгоду для себя поражения Франции.
Он разберет и в случае большевистского напора, куда ему идти и что ему делать, и, понятно, без убытка для себя.
Посып-хан*
Существует на свете одна замечательная книга — шестая книга российских дворянских родов. Она же — Бархатная. В нее внесены все бывшие именитые фамилии, члены коих за службу своих предков в ратном деле и в совете государевом удостоены чести быть причисленными к царскому дворцу. Хорошая и полезная книга. Надо же помнить и читать имена людей, создававших родную историю, собиравших и укреплявших родную землю!
Одно жаль: составлялась эта книга в те блаженные времена, когда методы исторического исследования имели еще характер домашне-кустарный, вследствие чего в шестую книгу и вплелось множество досадных, часто уже неисправимых ошибок.
В наши дни один из князей Долгоруких (не ручаюсь, может быть, и Долгоруковых) занимается перетряхиванием листов этой книги и их проверкой. Результаты у него порою получаются весьма прискорбные для иных эмигрантов, ставящих на своих французских карточках частицу «de». Привык такой гордец совать людям в нос при всяком удобном и неудобном случае: «Мы — столбовые. Мы-с Ивана Третьего дворяне (кстати, тогда и дворян-то не было, а были бояре). Наш предок — муж честен, выходец из Литвы (далась им эта Литва!). Мы старого корня».
И вдруг у князя Долгорукова: «Всегда состояли в однодворцах. Фамилия образовалась от местного названия бани. Или потаенно: кладовой».
Больше всего вторглось в шестую книгу моргариновых дворян после указа, по которому право преемственного дворянства получали лица, дослужившиеся до ордена Святого и равноапостольного князя Владимира третьей степени. Этой мерой правительство, несомненно, хотело разжижить действительно древнее и родовое высшее сословие, которое не прочь было побудировать, поперечить государям и посчитаться с ними знатностью происхождения, как, впрочем, бывало нередко и в других странах (Сир-де-Кусси, Роган).
И что же получилось из этой страховой меры?
Жил, например, на свете чиновник Посыпкин. Ну — самая архичиновничья, самая гованская, самая водевильно-чернильная фамилия. Сразу видно, что и отец, и дед его посыпали песком (тогда еще не было промокашек) бумаги. «Эй, ты, Посыпка, принеси-ка песочницу!»
Служил он очень долго: кляузами, происками и доносами долез до звания экзекутора, хапал налево и направо, был живоглотом, настоящей акулой; дослужился, наконец, до надворного, и вот венец чиновничьих мечтаний: великолепный орден на черно-красной ленте. И звание потомственного дворянина. А им давно уже присмотрена и приторгована была доходная деревня с четырьмястами душ, со старой барской усадьбой. Теперь он и помещик, и дворянин, гложет червь честолюбия: в шестую бы книгу хорошо вписаться, родословное бы древо завести.
За чем дело стало? Были на это ловкие специалисты в губерниях, были высокие мастера и художники в Петербурге. Недаром Департамент геральдии считался в те времена самым хлебным из всех чиновных учреждений. Отколупывал Посыпкин от своих капиталов, политых сиротскими и вдовьими слезами, изрядный кусок и совал его таким же живоглотам, каким и он сам был в экзекуторах, — и вот он уже в шестой книге, потомок владетельного князя из Золотой Орды Посып-хана, который в княжение Василия Темного передался на русскую службу и стал писаться «князь княж». Высокие артисты раскручивали Посыпкину высокое и широкое родословное древо, и в фамильном его гербе значилось: золотой жеребенок на зеленом поле; вверху справа — серебряный натянутый лук со стрелою; слева — молодой полумесяц; внизу-три серебряные башни.
Таких Посып-ханов в шестой книге чрезвычайно много, так много, что их всех, даже при настойчивом желании и упорном труде, никогда не переловить поодиночке. Да и черт с ним, с посыпкинским смешным и жалким честолюбием. Гораздо важнее заглянуть поглубже в то, каким помещиком был Посыпкин.
А тут и нужно вспомнить всю его служебную карьеру, начиная со звания канцелярского служителя.
Что он видел? Тыканье, пинки, плевки, унижения, подобострастие, трепетное подхалимство, наушничество. И когда даже сам начал других тыкать, брыкать, запугивать и погонять, то по-прежнему пресмыкался и лакействовал перед высшим.
И вдруг сразу в беспрекословном и безотчетном повиновении у него оказываются сотни крепостных рабов, которых он хочет — казнит, хочет — милует, хочет-с кашей ест, хочет — с маслом пахтает. Как должна была развернуться в сладком ощущении безграничной власти его запакощенная, разъеденная оскорблениями, червивая душа! Конечно, он стал, психологически не мог не стать, мелким, злобным, ухищренным, изобретательным тираном. Именно в этих-то Посыпкиных, главным образом, и кричал позор перед всем миром русского крепостничества. Салтычиха — садическая случайность.
Не то — коренной, трехсот-пятисотлетний помещик-боярин (барин — глупое, опошленное, лакейское слово). Веками связанный с землей и народом, он понимал, что только им он обязан своим благосостоянием и потому привык землю чтить, а о мужиках заботиться.
Говорят, Толстой в «Войне и мире» совсем обошел стороною несчастного, забитого мужика (такие обвинения я слышал от народников).
Но Толстой, всегда руководимый правдой, всегда писал то, что он видел. Значит, угнетенного, обесчеловеченного мужика он никогда не видел у себя на своем жизненном пути ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности, несмотря на крепостное право.
Пушкин, как железную перчатку, бросал шестьсот лет своего дворянства в лицо придворным выскочкам, льстецам и интриганам. Но он же, возвратившись после отпущения грехов Николаем I из Москвы, где его, уже знаменитого, осыпали ласками и лестью, на место прежней ссылки, в деревню, пишет Вяземскому о том, что приятнее славы и дороже милости двора были для него слезы няни и сердечная встреча «моих хамов».
Среди декабристов был цвет русской старой, земляной аристократии, но в их мечтаемой конституции на первом месте были свобода крестьянина и наделение его землею.
Еще задолго до 1861 года лучшие, просвещеннейшие помещики заменяли барщину оброком. Бывали даже чудаки, пытавшиеся отпускать всех своих крепостных на волю, наделив их землею, но за это по головке тогда не гладили, а высылали за границу, отдавали под опеку или попросту сажали в желтый дом.
И вот в нынешнее время земля и мужик опять стали пробным оселком.
Бывший помещик, принадлежащий к старой, родовитой русской семье, конечно, возмущен — насильственным захватом земли и нелепыми безобразиями, которыми мужик сопровождал его. Но он сознает причину этого как в давних исторических ошибках, так и в лености, неспособности и равнодушии последних правителей и во многом другом, где вина лежит на всех. И от него вы не услышите слов гнева и угроз мести.
А внук Посып-хана говорит, сжав кулаки:
— Вернемся, провозгласим царя, землю от крестьянина отнимем и так его примемся, подлеца, драть, что навеки забудет он и думать о разделюции.
Очень печально, что оба они внесены в одну и ту же книгу, в печальный памятник прежним людям, составляющим честь, гордость и славу России.
Капля и камень*
Пятичасовой чай. На столе печенье и кекс с коринкой. Коричневый теплый чай. Кто входит в переднюю, слышит скачущий гул голосов:
— А-ва-ва, а-ва-ва, а-ва-ва, — точно там тридцать человек, зажав уши пальцами, долбят вслух урок.
И вдруг раздается, покрывая все, громкий властный голос хозяйки, большой женщины с лошадиным лицом и с таким огромным висячим задом, который в 1001 ночи восторженно назывался царственным:
— Ах, господа, вы там опять о большевиках начали? Боже мой, как надоело. Оставьте их, наконец, в покое хоть в моем доме. Право, я назначу за слово «большевик» штраф в какую-нибудь пользу.
Слышишь иногда и от читателя:
— Все о большевиках да о большевиках. Я русских газет и вовсе не покупаю. Осточертело. Ну, Чека, ну, расстрелы, ну, мозги, ну, кровь, ну, голод, ну, черт в ступе Но ведь в тысячный раз — подумайте! Я для чего газету беру? Чтобы отдохнуть за чашкой кофе, прочитать новости, пикантную сплетню, веселенький фельетончик, этакое «нечто обо всем» или «в свете и в полусвете». Недурно — легонький рассказик… стишки остренькие. А вы большевиками кормите. Ну и кушайте их сами, я сыт.