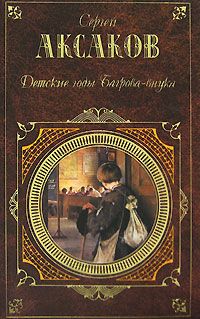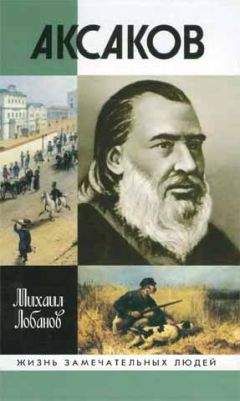Сергей Аксаков - Том 1. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука
«О чем плакали бабушка и тетушка?» – спросил я, оставшись наедине с матерью. Мать подумала и отвечала: «Они вспомнили, что целый век были здесь полными хозяйками, что теперь настоящая хозяйка – я, чужая им женщина, что я только не хочу принять власти, а завтра могу захотеть, что нет на свете твоего дедушки – и оттого стало грустно им». – «А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят». – «А потому, что бабушке и тетушке твоей стало бы еще грустнее; к тому же я терпеть не могу… ну, да ты еще мал и понять меня не можешь». Сколько я ни просил, сколько ни приставал, мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову: чего мать терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят?..
Стали приезжать к нам тетушки. Первая приехала Аксинья Степановна; в ней я никакой перемены не заметил: она была так же к нам ласкова и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем, и я сейчас увидел, что она стала совсем другая; она сделалась не только ласкова и почтительна, но бросалась услуживать моей матери, точно Параша; мать, однако, держала себя с ней совсем неласково. Наконец приехала и Елизавета Степановна с дочерьми. Гордая генеральша, хотя не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степановна, но также переменила свое холодное и надменное обращенье на внимательное и учтивое. Даже двоюродные сестрицы переменились. Меньшая из них, Катерина, была живого и веселого нрава; она и прежде нравилась нам больше, теперь же хотели мы подружиться с ней покороче; но, переменившись в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее как близкую родню. Все они гостили в Багрове не подолгу.
Наконец приехали Чичаговы. Искренняя, живая радость матери сообщилась и мне; я бросился на шею к Катерине Борисовне и обнял ее, как родную. Видно, много выражалось удовольствия на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: «Посмотри, Петр Иваныч, как Сережа нам обрадовался!» Петр Иваныч в первый раз обратил на меня свое особенное вниманье и приласкал меня; в Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами, и когда я был уже гимназистом, то он очень любил меня. Мать Екатерины Борисовны, старушка Марья Михайловна Мертваго, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетушку и отца своими ласковыми речами, а моя мать увела Чичаговых в свою спальную, и у них начались самые одушевленные и задушевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд Чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю. В Багрове каждый год производилась охота с ястребами за перепелками, которых все любили кушать и свежих и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся «садком», два ястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой – у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой, который, несмотря на то что до нашего приезда ежедневно посылался жать, не расставался с своим ястребом и вынашивал его по ночам. Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и коростелей. Мне очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец отец сам поехал и взял меня с собой. Охота мне очень понравилась, и, по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам, мать стала отпускать меня с Евсеичем. Я очень скоро пристрастился к травле ястребочком, как говорил Евсеич, и в тот счастливый день, в который получал с утра позволенье ехать на охоту, с живейшим нетерпеньем ожидал назначенного времени, то есть часов двух пополудни, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, с собственной своей собакой на веревочке (потому что у обоих собаки гонялись за перепелками) и скажет: «Пора, сударь, на охоту». Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, а любил все в охоте: как собака, почуяв след перепелки, начнет горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле; как, по мере того как она подбирается к птице, горячность ее час от часу увеличивается; как охотник, высоко подняв на правой руке ястреба, а левою рукою удерживая на сворке горячую собаку, подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней; как вдруг собака, иногда искривясь набок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте; как охотник кричит запальчиво «пиль, пиль» и наконец толкает собаку ногой; как, бог знает откуда, из-под самого носа с шумом и чоканьем вырывается перепелка – и уже догоняет ее с распущенными когтями жадный ястреб, и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажен, и опускается с добычею в траву или жниву, – на это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклонясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку; как потом полакомит ястреба оторванной головкой и снова пойдет за новой добычей; я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца, как ястреб щиплет перья и пух, который пристает к его окровавленному носу, и как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника; как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости и наконец набивает свой зоб в целый кулак величиною. В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я ни старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрице, – обе говорили, что это жалко и противно.
Я прежде сам замечал большую перемену в бабушке; но особенное вниманье мое на эту перемену обратил разговор отца с матерью, в который я вслушался, читая свою книжку. «Как переменилась матушка после кончины батюшки, – говорила моя мать, – она даже ростом стала как будто меньше; ничем от души не занимается, все ей стало словно чужое; беспрестанно поминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степановне мало заботится. Я ей говорю о том, как бы ее пристроить, выдать замуж, а она и слушать не хочет; только и говорит: „Как угодно богу, так и будет…“» А отец со вздохом отвечал: «Да уж совсем не та матушка! Видно, ей недолго жить на свете». Мне вдруг стало жалко бабушку, и я сказал: «Надо бабушку утешать, чтоб ей не было скучно». Отец удивился моим неожиданным словам, улыбнулся и сказал: «А вы бы с сестрой почаще к ней ходили, старались бы ее развеселить». И с того же дня мы с сестрицей по нескольку раз в день стали бегать к бабушке. Обыкновенно она сидела на своей кровати и пряла на самопрялке козий пух. Вокруг нее, поджав под себя ноги, сидело множество дворовых крестьянских девочек и выбирали волосья из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее подле нее. Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад и бранила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутны и тусклы; она часто дремала за своим делом, а иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила: «Ну, что уж мне за пряжа, пора к Степану Михайлычу», и начинала плакать. Мы с сестрицей не умели и приступиться к ней сначала и, посидев, уходили; но тетушка научила нас, чем угодить бабушке. Она, несмотря на свое равнодушие к окружающим предметам, сохранила свой прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам. Между прочим, она очень любила вороньи ягоды и жаренные в сметане шампиньоны. Этих ягод было много в саду, или, лучше сказать, в огороде; тетушка ходила с нами туда, указала их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке. Она как будто обрадовалась и, сказав: «Знатные ягоды, эки крупные и какие спелые!» – кушала их с удовольствием; хотела и нас попотчевать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тетушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка или, скорее сказать, лощинка среди двора, возле тетушкиного амбара; вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут и родились шампиньоны; у бабушки называлось это место «золотой ямкой»; ее всякий день поливала водой косая и глухая девка Груша.
Также с помощью тетушки мы наковыряли, почти из земли, молоденьких шампиньонов полную тарелку и принесли бабушке; она была очень довольна и приказала нажарить себе целую сковородку. Бабушка опять захотела попотчевать нас шампиньонами, и мы опять отказались. Она махнула рукой и сказала: «Ну, уж какие вы». Услуживая таким образом, мы пускались в разные разговоры с бабушкой, и она становилась ласковее и более нами занималась, как вдруг неожиданный случай так отдалил меня от бабушки, что я долго ходил к ней только здороваться да прощаться. Один раз, когда мы весело разговаривали с бабушкой, рыжая крестьянская девчонка подала ей свой клочок пуха, уже раз возвращенный назад; бабушка посмотрела на свет и, увидя, что есть волосья, схватила одною рукою девочку за волосы, а другою вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку… Я убежал. Это напомнило мне народное училище, и я потерял охоту сидеть в бабушкиной горнице, смотреть, как прядет она на самопрялке и как выбирают девчонки козий пух.