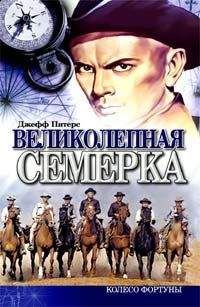Викентий Вересаев - Том 3. На японской войне. Живая жизнь
Но есть в глубине души художника какое-то прочное бессознательное знание, оно высоко поднимает его над этим минутным ужасом. И из мрачной тайны смерти он выносит лишь одно – торжествующую, светлую тайну жизни.
Смерть, в глазах Толстого, хранит в себе какую-то глубокую тайну. Смерть серьезна и величава. Все, чего она коснется, становится тихо-строгим, прекрасным и значительным – странно-значительным в сравнении с жизнью. В одной из своих статей Толстой пишет: «все покойники хороши». И в «Смерти Ивана Ильича» он рассказывает: «Как у всех мертвецов, лицо Ивана Ильича было красивее, главное, – значительнее, чем оно было у живого».
Стоит смерть в своей величавой, таинственной серьезности; а перед нею в мелком испуге мечется цепляющийся за жизнь человек. Умирает в рассказе «Три смерти» барыня. Вся она полна ужаса перед надвигающейся смертью, вся полна одною собою и своею тяжбою со смертью. Ее возмущает, что муж, зная о ее состоянии, способен есть. Даже детей своих она не хочет видеть перед смертью: «это расстроит ее». Все вокруг чувствуют себя под ее взглядами как бы виноватыми в том, что живут. Умирает она, она, – ведь этим опровергается вся жизнь, разрушается весь мир. Как же у людей хватает совести жить и думать о жизни перед лицом совершающейся величайшей мировой катастрофы?
Барыня в гробу. Дьячок читает над нею псалтырь.
«Сокроешь лицо твое, – смущаются. Возьмешь от них дух, – умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой, – созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава во веки».
«Лицо усопшей было строго и величаво. Ни в чистом, холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?»
В ямской избе в это время умирает больной ямщик дядя Федор. Умирает спокойно и как будто просто – до того просто, что ужасом трогает душу эта необычайная простота. Ямщик Серега просит больного отдать ему свои сапоги и просьбою этою ясно обнаруживает уверенность, что самому Федору их уже не носить. Кухарка подхватывает:
«Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут».
И больной не пугается, как барыня, упоминания о смерти, умоляюще и вопросительно не смотрит кругом. Как будто совсем не о его смерти идет речь. Он спокойно отдает сапоги, под условием, чтоб Серега поставил на его могиле камень. Спокойно говорит кухарке:
«Ты на меня не серчай, Настасья: скоро опростаю угол-то твой».
Умирает покорно, тихо и неслышно. В народе про такую смерть говорят: «умер, как трава отцвела».
Но барыня про эту смерть сказала бы: «мужицкая тупость и грубость духа, отсутствие тонких чувств».
Через месяц ямщик Серега идет на заре в рощу срубить ясень на крест умершему дяде Федору.
«Топор низом звучал глуше и глуше. Дерево погнулось, послышался треск его в стволе, и, ломая сучья, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли… Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями. Первые лучи солнца пробежали по земле и небу. Роса, блестя, заиграла на зелени. Сочные листья радостно и спокойно шептались на верхушках, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым поникшим деревом».
Дерево умерло. Но пред нами не ужас, не опровержение жизни, а светлое таинство «созидания и обновления лица земли». Живые деревья еще радостнее красуются на новом просторе, сочные листья радостно шепчутся, ветви шевелятся величаво… «„Возьмешь от них дух“, – умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой, – созидаются и обновляют лицо земли». Понял ли бы дядя Федор, умирая, великие слова эти? Слов, конечно, не понял бы, и текста растолковать не сумел бы. Но весь он был полон тем же настроением, которое создало и эти слова. Тайными, неуловимыми для сознания путями душа его слита с общею жизнью, жизнь свою он ощущает как частицу этой единой жизни. И с высоты ощущаемого единства далеко внизу кажется собственная смерть, она теряет свои огромные заслоняющие жизнь очертания, перестает быть мировой катастрофой. И не тупость в этом, не грубость духа, а такая тонкость и глубина жизнеощущения, которой барыне даже не понять.
В «Воскресении» Толстой рассказывает про революционера Набатова, крестьянина по происхождению: «В религиозном отношении он был типичным крестьянином; никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души неся то унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что, как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую, – навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, желудь в дуб, – так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это, и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней».
Что это? Утешительная уверенность в незыблемости законов сохранения материи или энергии? Я умру, а закон сохранения энергии будет существовать вечно. Я умру, но не уничтожусь, а превращусь… в навоз, на навозе же пышно распустится базаровский «лопух». Какое же это утешение? Как с такою «верою» возможно «бодро и даже весело смотреть в глаза смерти»?
Так возражают сыны Достоевского. У самого Достоевского «смешной человек», собираясь застрелиться, пишет: «Жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере, для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, весь этот мир и все эти люди – я-то сам один и есть». Людям с подобным жизнеощущением никогда не понять Толстого. Нет в отъединенной душе их живого чувствования мира, связи с жизнью оборваны. Только издалека мир отражается в душе, как в холодном зеркале. Разбилось зеркало, – и где мир? Его нет. Совершилась мировая катастрофа. Какое там еще «созидание и обновление лица земли»! Просто школьные законы физики. Вздор все это. Одним только можно предотвратить мировую катастрофу – сохранением навеки моего личного «я». И одним только можно уничтожить идущий от смерти ужас – уничтожением самой смерти.
Тенеромо вспоминает, как раннею весною он работал с Толстым в его саду. Они присели отдохнуть на межу у дороги.
«Нет, вы прислушайтесь, – сказал Лев Николаевич, – прислушайтесь к этой немолчной работе жизни, какая здесь идет во всех углах и впадинах… Мне кажется, будто я сижу и чувствую движение соков, как они тянутся тонкими струйками по мочкам и корням к стволу, ветвям и почкам. Я чувствую, как земля внизу, оттаивая, шлет свои пары кверху, и дышит, и вздыхает, как вздыхает человек после долгого, тяжелого сна. Это не метафора, не уподобление, а так оно и есть. Земля живет несомненною, живою, теплою жизнью, как и все мы, взятые от земли».
Если мы поймем, если душою почувствуем это жизнеощущение, то мы поймем также, почему Набатов способен «бодро и даже весело всегда смотреть в глаза смерти». Уж конечно, дело тут не в законе сохранения энергии и не в умственных каких-либо убеждениях. Тесно со всех сторон душа охвачена жизнью, жизнь как будто непрерывно переливается из души в мир и из мира в душу. Ушла жизнь из души, – и как будто сама душа вместе с нею растворилась в жизни мира. «И ты, – как выражается Марк Аврелий, – ты легко оторвешься от жизни, как созревший плод с дерева, благословляя ветвь, на которой висел».
Толстой рассказывает про Платона Каратаева:
«Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только, как частица целого, которое он постоянно чувствовал». Больной и слабый, Каратаев сидит в своей шинельке, прислонившись к березе. Идти он не может. И он знает, что французы сейчас его пристрелят. «В лице Каратаева, кроме выражения вчерашнего радостного умиления, светилось еще выражение тихой торжественности».
Если есть в душе жизнь, если есть в ней, в той или другой форме, живое ощущение связи с общею жизнью, то странная перемена происходит в смерти, и рассеивается окутывающий ее ужас.
В Севастополе умирает раненый поручик Козельцов.
«– Что, я умру? – спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.
Священник не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.
Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.
– Что, выбиты французы?
– Везде победа за нами осталась, – отвечал священник.
– Слава богу, – проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам. Мысль о брате мелькнула на мгновение в его голове. – „Дай бог ему такое же счастье“, – подумал он».
Однажды Конфуция спросили: «Как надо служить духам, и что такое смерть?» Мудрец ответил: «Когда не умеют служить людям, то где же уметь служить духам. Когда еще не знают, что такое жизнь, то где же знать, что такое смерть». Удивительная мысль эта близка и родна душе Толстого. Разрешения загадки смерти он все время ищет в разрешении загадки жизни.