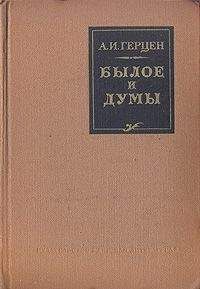Александр Герцен - Былое и думы
Упрекать женщину в ее исключительном взгляде вряд справедливо ли. Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить в них предрассудки? Их разбивает опыт, а оттого иногда ломится не предрассудок, а жизнь. Люди обходят вопросы, нас занимающие, как старухи и дети обходят кладбища или места, на которых…
Она перешагнула, но коснувшись гроба! Она все поняла, но удар был неожидан и силен; вера в меня поколебалась, идол был разрушен, фантастические мучения уступили факту. Разве случившееся не подтверждало праздность сердца? В противном случае разве оно не противустояло бы первому искушению – и какому? И где? В нескольких шагах от нее. И кто соперница? Кому она пожертвована? Женщине, вешавшейся каждому на шею…
Я чувствовал, что все это было не так, чувствовал, что она никогда не была пожертвована, что слово «соперница» нейдет и что если б эта женщина не была легкой женщиной, то ничего бы и не было, но, с другой стороны, я понимал и то, что оно могло так казаться.
Борьба насмерть шла внутри ее, и тут, как прежде, как после, я удивлялся. Она ни разу не сказала слова, которое могло бы обидеть Катерину, по которому она могла бы догадаться, что Natalie знала о бывшем, – упрек был для меня. Мирно и тихо оставила она наш дом. Natalie ее отпустила с такою кротостью, что простая женщина, рыдая, на коленях перед ней сама рассказала ей, что было, и все же наивное дитя народа просила прощенья.
Natalie занемогла. Я стоял возле свидетелем бед, наделанных мною, и больше, чем свидетелем, – собственным обвинителем, готовым идти в палачи. Перевернулось и мое воображение – мое падение принимало все большие и большие размеры. Я понизился в собственных глазах и был близок к отчаянию. В записной книге того времени уцелели следы целой психической болезни от покаяния и себяобвинения до ропота и нетерпения, от смирения и слез до негодования…
«Я виноват, много виноват, я заслужил крест, лежащий на мне (записано 14 марта 1843 года)… Но когда человек с глубоким сознанием своей вины, с полным раскаянием и отречением от прошедшего просит, чтоб его избили, казнили, он не возмутится никаким приговором, он вынесет все, смиренно склоняя голову, он надеется, что ему будет легче по ту сторону наказания, жертвы, что казнь примирит, замкнет прошедшее. Только сила карающая должна на том остановиться; если она будет продолжать кару, если она будет поминать старое, человек возмутится и сам начнет реабилитировать себя… Что же в самом деле он может прибавить к своему искреннему раскаянию? Чем ему еще примириться? Дело человеческое состоит в том, чтобы, оплакавши вместе с виновным его падение, указать ему, что он все еще обладает силами восстановления. Человек, которого уверяют, что он сделал смертный грех, должен или зарезаться, или еще глубже пасть, чтоб забыться, – иного выхода ему нет».
13 апреля. «Любовь!.. Где ее сила? Я, любя, нанес оскорбление. Она, еще больше любя, не может стереть оскорбление. Что же после этого может человек для человека? Есть развития, для которых нет прошедшего, оно в них живо и не проходит… они не гнутся, а ломятся, они падают падением другого и не могут сладить с собой».
30 мая 1843. «Исчезло утреннее, алое освещение, и когда миновала буря и рассеялись мрачные тучи, мы были больше умны и меньше счастливы».
Грустно сосредоточивалась Natalie больше и больше, – вера ее в меня поколебалась, идол был разрушен.
Это был кризис, болезненный переход из юности в совершеннолетие. Она не могла сладить с мыслями, точившими ее, она была больна, худела, – испуганный, упрекая себя, стоял я возле и видел, что той самодержавной власти, с которой я мог прежде заклинать мрачных духов, у меня нет больше, мне было больно это и бесконечно жаль ее.
Говорят, что дети растут в болезнях; в эту психическую болезнь, которая поставила ее на край чахотки, она выросла колоссально. Вместо утреннего, яркого, но косого освещения она входила этим скорбным путем в светлый полдень. Организм вынес – это только и было нужно. Не утрачивая ни одной йоты женственности, она мыслью развилась с необычайной смелостью и глубиной. Тихо и с самоотверженной улыбкой склонялась она перед неотвратимым, без романтического ропота, без личной строптивости и без кичливого удовольствия, с другой стороны.
Не в книге и книгой освободилась она, а ясновидением и жизнью. Неважные испытания, горькие столкновения, которые для многих прошли бы бесследно, провели сильные бразды в ее душе и были достаточным поводом внутренней глубокой работы. Довольно было легкого намека, чтоб от последствия к последствию она доходила до того безбоязненного понимания истины, которое тяжело ложится и на мужскую грудь. Она грустно расставалась с своим иконостасом, в котором стояло так много заветных святынь, облитых слезами печали и радости; она покидала их, не краснея, как краснеют большие девочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась от них, она их уступила с болью, зная, что она станет от этого беднее, беззащитнее, что кроткий свет мерцающих лампад заменится серым рассветом, что она дружится с суровыми, равнодушными силами, глухими к лепету молитвы, глухими к загробным упованиям. Она тихо отняла их от груди, как умершее дитя, и тихо опустила их в гроб, уважая в них прошлую жизнь, поэзию, данную ими, их утешения в иные минуты. Она и после не любила холодно касаться до них, так, как мы минуем без нужды ступать на земляную насыпь могилы.
При этой сильной внутренней работе, при этой ломке и перестройке всех убеждений явилась естественная потребность отдыха и одиночества.
Мы уехали в подмосковную моего отца.
И как только мы очутились одни, окруженные деревьями и полями, – мы широко вздохнули и опять светло взглянули на жизнь. Мы жили в деревне до поздней осени. Изредка приезжали гости из Москвы, Кетчер гостил с месяц, все друзья явились к 26 августа; потом опять тишина, тишина и лес, и поля – и никого, кроме нас.
Уединенное Покровское, потерянное в огромных лесных дачах, имело совершенно другой характер, гораздо больше серьезный, чем весело брошенное на берегу Москвы-реки Васильевское с своими деревнями. Разница эта даже была заметна между крестьянами. Покровские мужички, задвинутые лесами, меньше васильевских походили на подмосковенных, несмотря на то что жили двадцатью верстами ближе к Москве. Они были тише, проще и чрезвычайно тесно сжились между собой. Мой отец переселил в Покровское одну богатую крестьянскую семью из Васильевского, но они никогда не считали эту семью за принадлежащую к их селу и называли их «посельщиками».
С Покровским я тоже был тесно соединен всем детством, там я бывал даже таким ребенком, что и не помню, а потом с 1821 года почти всякое лето, отправляясь в Васильевское или из Васильевского, мы заезжали туда на несколько дней. Там жил старик Кашенцов, разбитый параличом, в опале с 1813 года, и мечтал увидеть своего барина с кавалериями и регалиями; там жил и умер потом, в холеру 1831, почтенный седой староста с брюшком, Василий Яковлев, которого я помню во все свои возрасты и во все цвета его бороды, сперва темно-русой, потом совершенно седой; там был молочный брат мой Никифор, гордившийся тем, что для меня отняли молоко его матери, умершей впоследствии в доме умалишенных…
Небольшое село из каких-нибудь двадцати или двадцати пяти дворов стояло в некотором расстоянии от довольно большого господского дома. С одной стороны был расчищенный и обнесенный решеткой полукруглый луг, с другой – вид на запруженную речку для предполагаемой лет за пятнадцать тому назад мельницы и на покосившуюся, ветхую деревянную церковь, которую ежегодно собирались поправить, тоже лет пятнадцать, Сенатор и мой отец, владевшие этим имением сообща.
Дом, построенный Сенатором, был очень хорош, высокие комнаты, большие окна и с обеих сторон сени вроде террас. Он был построен из отборных толстых бревен, ничем не покрытых ни снаружи, ни внутри и только проконопаченных паклей и мохом. Стены эти пахли смолой, выступавшей там-сям янтарным потом. Перед домом, за небольшим полем, начинался темный строевой лес, через него шел просек в Звенигород; по другую сторону тянулась селом и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, выходившей через майковскую фабрику – на Можайку. Дубравный покой и дубравный шум, беспрерывное жужжание мух, пчел, шмелей… и запах… этот травяно-лесной запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами… которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весной, и жарким летом и почти никогда не находил. Иногда будто пахнёт им, после скошенного сена, при сирокко, перед грозой… и вспомнится небольшое местечко перед домом, на котором, к великому оскорблению старосты и дворовых людей, я не велел косить траву под гребенку; на траве трехлетний мальчик, валяющийся в клевере и одуванчиках, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья!