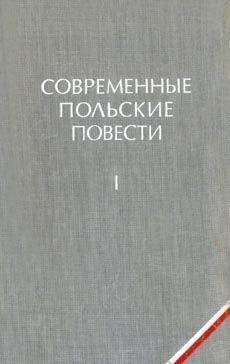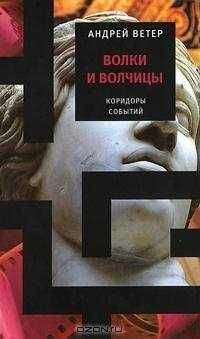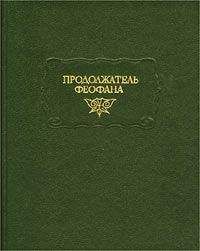Юрий Герман - Один год
Уже совсем заря занималась, уже бедный Головин и засыпал и просыпался, уже заурчали во дворе автобазы прогреваемые машины "дальнобойщиков" перед выездами в далекие рейсы - Жмакин все хвастался. По его мнению, здесь вообще не было ни единого водителя, достойного управлять хорошей машиной. И заработки у них плохие исключительно по собственной вине.
- Вот увидите! - вдруг закричал Жмакин так громко, что бедняга Никанор Никитич проснулся и подхватился бежать. - Вот увидите, я с первой получки целиком в бостон и габардин оденусь. Я себе такие корочки куплю...
- А зачем же вам... корочки? - удивился Головин.
- В смысле ботинки...
- Ах, ботинки?
И старик опять задремал сидя. Он не смел лечь в этой жмакинской буре, в этом воющем смерче хвастовства, в этих бешеных раскатах мечтаний о том, как Жмакину предложат комнату, нет, не комнату, а квартиру, как ему автобаза сама все обставит и как почему-то его вызовут в Кремль.
- Куда? - вновь подхватился Головин.
- В Кремль! - непоколебимо твердо сказал Жмакин. - А что?
- Конечно, почему же, - закивал головой Никанор Никитич. Непременно...
Почистим желтые?
...Дядечка в очках в углу лапшинского кабинета шуршал журналом. Алексей погодя вспомнил - это тот самый дядечка, который в больнице, когда умирал Толя Грибков, сидел на подоконнике и кричал на Жмакина, чтобы тот не смел кончать с собой.
- Ну, дальше! - сказал Лапшин. Выражение лица у него было строгое.
- Дальше, Иван Михайлович, материальный фактор тоже кое-что значит...
Лапшин вежливо попросил не обучать его "элементарным основам". Дядечка в углу смешно хрюкнул.
- Поконкретнее! - попросил Лапшин.
- Поконкретнее будет то, что мне на эти деньги, я извиняюсь, не прожить, - подрагивая щекой, сказал Жмакин. - Я ведь все в долг, гражданин начальник, все, понимаете, "за потом", а когда это "потом" наступит? Я вроде бы женатый, мне пора и к месту, в семью идти, а я что же, их объедать стану? Ребенок народится - я ему вроде никакую там рогульку купить не смогу?
- Какую такую рогульку? - спросил Лапшин.
- Ну, игрушку, шут их знает, какие игрушки бывают.
- А долги у тебя какие? Вернее, что ты долгами считаешь?
- Разные у меня долги, - угрюмо ответил Жмакин. - Не будем уточнять.
- Все-таки, может, уточним?
- Пожалуйста, гражданин начальник...
"Гражданин начальник" он говорил нарочно, от бешенства. А Лапшин как бы ничего не замечал.
- Например, имел я несколько подачек. Подал мне "на бедность" поначалу Егор Тарасович Пилипчук. Я в бухгалтерии проверял, там эти суммы не значатся, таким путем - из его кармана. Раз. Опять же Хмелянскому охота в его очкастую рожу кое-какие, как прежде выражались, ассигнации запустить. У Криничного жил - кушал, и пил, и его курево курил, - это как? Если у меня замаранное прошлое - значит, я вроде попрошайки, без отдачи? У Головина, божьего старичка, десятку стрельнул. У вахтерши Анны Егоровны...
- Допустим, - сказал Лапшин. - Согласен, так! А другие долги ты не собираешься возвращать?
- Это какие же такие долги?
- Не догадываешься?
Жмакин догадывался и молчал. Что он мог сказать? Что отдаст? Из каких денег мог он выплачивать уворованное - большие тысячи, которые числились за ним. А Лапшин между тем, вздев на нос очки, полистал толстую тетрадку и стал вслух читать вписанные туда даты, обстоятельства и суммы, причем даже сумочки и бумажники были оценены.
- Это кто же на меня такую бухгалтерию двойную завел? - угрюмо осведомился Алексей.
- У нас на все бухгалтерия имеется, - ответил Лапшин. - Только ты, Алеха, не злись, злиться-то не на кого, надо выход из положения искать. Что можешь предложить?
Дядечка в углу аппетитно закурил. Жмакин хотел было попросить у него папироску, но, заметив, что тот чему-то улыбается, не попросил и отвернулся от него. Лапшин, насупившись, листал свой "псалтырь".
- Предложить я могу, да толку не будет, - совсем угрюмо, почти злобно сказал Жмакин. - Предложение у меня такое, что могу я сам и грузить мясные туши и прочие изделия, и разгружать могу. Но только с моим прошлым и без паспорта меня на пушечный выстрел к такой миллионной ответственности не подпустят.
- Это вздор! - сказал дядечка в углу.
- Подожди, Львович! - попросил Лапшин.
Дядечка замолчал.
- Я как грузчик вполне справлюсь, - сказал Жмакин. - Я мальчишечка здоровущий, мои жилы никто не перервет, а за баранкой - это же для дамочек работа. И тут, гражданин начальник, как хотите...
- Брось ты с "гражданином начальником"! - неожиданно крикнул Лапшин.
- Как хотите, - дрожащим голосом продолжал Жмакин, - но вопрос принципиальный. Или давайте меня обратно за решетку после всех кошмаров моей жизни, или будьте так добры, доверьте машину с говядиной...
- А со свининой? - глядя в зеленые глаза Жмакина, спросил Лапшин. - Ох, Алеха, Алеха, кто кошмар моей жизни - так это ты!
Жмакин опустил голову. Он знал, как не выносит Лапшин всякие жалкие и жалобные слова, и опять не удержался. Верно, что кошмар его жизни!
Молчали долго, Лапшин опять думал. Погодя спросил:
- Львович, ты понимаешь, в чем дело?
Худой дядечка в очках поднялся со стула, прошелся по кабинету и сказал хмуро:
- Понимаю и предполагаю, что мы это дело пробьем.
- Вы - прокурор? - строго спросил Жмакин.
- Почему это прокурор? - удивился Ханин. - Почему?
- А потому, что прокурору такую бесчеловечность пробить - запросто.
- В общем, мы разберемся, - поглядывая на Ханина, сказал Лапшин. Предполагаю, что это дело вот товарищ - он журналист - выяснит, и мы все сообща тебе поможем. Будешь грузить свинину, говядину, баранину, чего там еще?
- Колбасные изделия, - без улыбки сказал Жмакин.
- Еще что?
- Еще... паспорт бы!
- Помню. Еще?
- Вроде бы все.
- Ну все так все.
Алексей поднялся. Лапшин внимательно на него смотрел. Что-то изменилось в Жмакине, а что - он не мог понять. То ли плечи стали шире, то ли весь он погрузнел, то ли глаза глядят строже...
- Чего вы? - смущаясь, спросил Жмакин.
- Вроде бы изменился ты.
- Я? Уже две недели самостоятельно работаю - может, это?
- Может.
- А вы, слышно, приболели?
- Приболел малость...
- Ваши годы, конечно, не молодые! - с приличным вздохом произнес Жмакин. - За здоровьем нужно внимательно следить.
- Ладно, иди, - усмехнулся Лапшин. - "Ваши годы"! Куда сейчас двинешь?
- В знаменитое кафе "Норд", - сказал, подумав, Жмакин. - С получки, никого не боясь, пирожки стану кушать и кофе с молоком пить. А то и какао. Красиво и смело начинаю новую жизнь.
В "Норде" Жмакин сел за столик под белым медведем, нарисованным на зеленом стекле, почитал газету и с маху наел на двадцать семь рублей одних сладостей, решив, что теперь по крайней мере месяц не захочется сладкого. Осталось меньше семидесяти рублей. Два рубля он дал на чай, купил пачку папирос за пять и уткнулся в газету, а когда поднял глаза, то увидел, что в кафе входят Клавдия в миленьком синем платье и Федя Гофман, розовый, подобранный, сухощавый и самодовольный. Жуя приторное пирожное с кремом, Жмакин спрятался за газету и взглядом, полным гнева, следил, как белобрысый Федя по-хозяйски выбирал столик и как улыбалась знакомой робкой улыбкой Клавдия. На ней были новые туфли с пряжками, и Жмакин сразу же подумал, что эти туфли купил ей Гофман. Жадными и злобными глазами он оглядел ее фигуру и вдруг заметил уже округляющийся живот, заметил, что бока ее стали шире и походка осторожнее.
"Мой ребенок, - подумал Жмакин, - мой". И, как бы споткнувшись, застыл на мгновение и усмехнулся, а потом тихим голосом подозвал официанта и заказал себе сто граммов коньяку и лимон.
Клавдия и Гофман сидели неподалеку от него, наискосок, в кабинете, и не замечали, что он следит за ними, а он смотрел, и лицо у него было такое, точно он видел нечто чрезвычайно низкое и постыдное.
Гофман сидел вполоборота к нему, и особенное чувство ненависти в Жмакине возбуждала шея Гофмана, подбритая и жилистая. "А ведь ничего парень, - думал Жмакин, - даже не хуже меня, если не лучше". И он представлял себе, как Гофман обнимает Клавдию и как Клавдия дотрагивается до этой жилистой подбритой шеи. Мучаясь, облизывая языком сухие губы, он с яростным наслаждением вызывал самые мерзкие образы, какие только могли возникнуть в мозгу, и примеривал эти образы к Клавдии, и тут же грозил ей и ему, и придумывал, как он подойдет сейчас к ним к обоим, скажет какое-то главное, решающее слово на все кафе, а потом начнет бить Гофмана по морде до конца, до тех пор, пока тот не свалится и не запросит пощады.
Он выпил коньяк и заказал себе еще.
Гофман подпер лицо руками и говорил что-то Клавдии, а она, роясь в сумочке, рассеянно улыбалась. Им принесли кофе и два пирожных.
"Небогато", - со злорадством подумал Жмакин.
Уронив папиросы, он нагнулся, чтобы поднять их, и, когда брал в руки газету, увидел, что Клавдия смотрит на него.