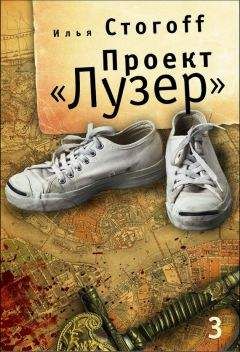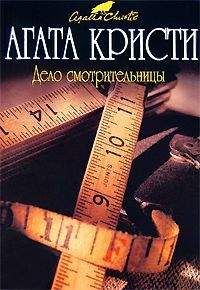Лев Толстой - Том 21. Избранные дневники 1847-1894
8 ноября. Ясная Поляна. 89. Встал поздно. Пытался писать об искусстве, не идет. Делаю пасьянсы — вроде сумасшествия. Читал. Думал по случаю разговора с детьми о прислуге и письма Левы и всей нашей жизни: нам кажется естественной наша жизнь с закабаленными рабочими для наших удобств, с прислугой… Нам даже кажется, как дети сказали: ведь его никто не заставляет, он сам пошел в лакеи, и как учитель сказал: что если человек не чувствует унижения выносить за мной, то я не унижаю его, нам кажется, что мы совсем либеральны и правы. А между тем все это положение есть нечто столь противное человеческому свойству, что нельзя бы было не только устроить, но и вообразить такое положение, если бы оно не было последствием очень определенного нам известного зла, которое мы все знаем и которое, мы уверяем себя, уже давно прошло. Не было бы рабства, ничего подобного нельзя бы было выдумать. Все это есть не только последствие рабства, но само оно, только в иной форме. Источник этого есть убийство. И не может быть иначе. Лег поздно. Все те же болезни. И та же тревога, и та же моя апатия.
9 ноября. Ясная Поляна. 89. Встал раньше. То же. Ходил на Козловку. Письма от Лебединского, Дунаева, Анненковой хорошее. […]
За чаем много говорили с Holzapfele о религии. Он добрый. Хорошо говорил, смягчился я. Теперь 12-й час, ложусь спать.
[10 ноября. ] Жив еще; но плох, плох до низости. Опять злюсь, опять желаю. Утром рубил акацию и до завтрака и перед обедом.
После обеда неожиданно стал писать историю Фредерикса*. […]
14 ноября. Ясная Поляна. 89. Письмо прекрасное от Марьи Александровны и Ольги Алексеевны и Озерецкой.
[…] Все ходит и тревожит мысль о том, что рабство, стоящее за нами, губит нашу жизнь, извращает наше сознание жизни. Писал довольно много. Пошел работать и зашиб глаз. Ходил к Домашке больной. Думал: ищешь, как лучше обойтись с человеком (прибавлю), как обойти трудность? Прикидываешь и так и этак, и все не выходит. А есть одно средство: быть готовым на униженье ради бога и с любовью к этому человеку или вообще к людям… Еще думал: людям необходимо чувствовать себя правыми перед самими собой; без этого им нельзя жить, и потому, если жизнь их дурна, они не могут мыслить правильно (вот где губит нашу мысль инерция рабства), и от этого та путаница в головах. Главное правило для жизни — это натягивать ровно с обоих концов постромку совершенствования (движение вперед), и мысленного совершенствования и жизненного, чтоб одно не отставало от другого и не перегоняло. Как у нас впереди идеалы высокие, а жизнь подлая, и у народа жизнь высокая, а идеалы подлые.
[19 ноября. ] Жив и очень даже. Целое утро писал, кончил кое-как Фридрихса. Вечером читал «Комедию любви» Ибзена. Как плохо! Немецкое мудроостроумие — скверно.
Не записал, вчера Соня обиделась, что ее не подождали читать. Оказалось, что это у ней накипевшее оскорбление от Тани, ушедшей от ее музыки. Она говорит: я одинока совсем в семье. Может быть, я виноват. Очень жалко, любя жалко стало ее. Как хорошо, что я не обиделся, а сказал ей, что было правда, что у меня заболело сердце. И она смягчилась и меня пожалела. Ходил гулял утром и думал о ней, о том, чтобы письмо ей написать, которое бы она прочла после моей смерти. Сказать ей хочу, что ей надо искать, искать веры, основы духовной жизни, а нельзя жить, как она, инстинктами (которые у ней все [дурны], нет, не все, материнские хорошие) и тем, что другие делают. Другие сами не знают, потому что то, на чем они стоят, проваливается.
20 ноября. Ясная Поляна. 89. Встал поздно, порубил, потом сначала переделывал, поправлял Фридрихса. Очень хорошо работалось. Ездил в Дворики, и дорогой еще больше уяснилось: 1) характер тещи vulgar[110], лгунья, дарит и говорит про дареное и 2) его второй долг, который бы мог утаить, платит и что-нибудь либеральное по отношению мужиков.
Соня уехала в Тулу, не ворочалась. 5 часов. Иду обедать.
Нынче утром читал газету о том, как император германский Мольтке юбилей pour le mérite[111] праздновал, так живо представилось: сопоставить — отказ от воинской службы замарашки Хохлова, которого признают сумасшедшим, и праздник артиллерии*, речь императора, маневры и т. д. Когда я в самоуверенном духе, то думается, что мои темы писаний, как бутылки с кефиром, одна пьется — пишется, а другие закисают. Дай-то бог, чтоб эти две темы — о прислуге и рабстве и о войне и отказе созрели и чтоб я написал их*. Как будто закисают.
22 ноября. Ясная Поляна. 89. Прочел «Latude», прелестный психологический этюд — правда. И главное: статья Вогюе о выставке и о войне — надо выписать: оставим, мол, болтунов толковать о том, что блага человечество достигнет наукой, трудом, общением и наступит золотой век, который если бы наступил, то был бы мерзостью. Нужна кровь и т. д. Очень хотелось писать об этом*. […]
[26 ноября. ] День пропустил. Нынче 26. Встал рано, пошел рубить. Потом заснул, а потом писал о науке и искусстве. Проснувшись, очень ясно думал об этом. Писал недурно. Письмо от Суворина. Читал Лескова. Фальшиво. Дурно*. […]
28 ноября. Ясная Поляна. 89. Сейчас утро, после работы и кофею сидел и думал за пасьянсом: нынче пришел странник, я дал ему 15 копеек, он стал просить панталоны, я отказал, а у меня были. Думал о том, что вчера читал в книге Эванса*, что жизнь есть любовь, и когда жизнь любовь, то она радость, благо. Да, стало быть, все, что нужно, одно, что нужно, — это любить, уметь, привыкнуть любить всех всегда, отвыкнуть не любить кого бы то ни было в глаза и за глаза. Думал: ведь я знаю это, ведь я писал об этом, ведь я как будто верю в это. Отчего ж я не делаю этого? не живу только этим? Вся та жизнь, которую я веду, ведь только tâtonnement[112], a надо твердо поставить всю жизнь на это: искать, желать, делать одно — доброе людям — любить и увеличивать в них любовь, уменьшать в них нелюбовь.
Доброе людям? Что доброе? Одно: любовь. Я это по себе знаю и потому одного этого желаю людям, для одного этого работаю. Не нащупывая, а смело жить этим значит то, чтобы забыть то, что ты русский, что ты барин, что ты мужик, что ты женат, отец и т. п., а помнить одно: вот пред тобой живой человек, пока ты жив, ты можешь сделать то, что даст тебе и ему благо и исполнит волю бога, того, кто послал тебя в мир, можешь связать себя с ним любовью. То, что в сказочке я писал, только лучше.
Думал так очень ясно и взошел наверх с мыслью там приложить это. Постоял в столовой — дети, случая нет, вошел в гостиную: Таня лежит, и Новиков читает ей вслух, неловко, нехорошо мне показалось, и вместо приложения я повернулся и ушел. Но я не отчаиваюсь, я здесь внизу в себе работаю, чтобы понять и жалеть и любить их. Да, это, это одно нужно. Теперь 1-й час. Едва ли буду писать.
[1 декабря. ] Так и не писал. Не помню точно, что делал, не только это 28, но и 29 и 30. Нынче 1-е декабря 89. Ясная Поляна. Да, третьего дня, на другой день после того, что я писал, дьявол напал на меня — напал на меня прежде всего в виде самолюбивого задора, желания того, чтобы все сейчас разделяли мои взгляды, стал 29-го вечером спорить с Новиковым опять о науке, о прислуге, спорил с злостью. На другой день утром, 30, спал дурно. Так мерзко было, как после преступления. […] Все это после того, что записано 28-го. Вижу, разумом вижу, что это так, что нет другой жизни, кроме любви, но не могу вызвать ее в себе. Не могу ее вызвать, но зато ненависть, нелюбовь могу вырывать из сердца, даже не вырывать, а сметать с сердца по мере того, как она налетает на него и хочет загрязнить его. Хорошо пока хоть и это, помоги мне, господи.
Получил хорошее письмо от Бирюкова. Читал прекрасно написанный роман Мопассана, хотя и грязная тема*. Нынче утром подумал о Домашке: что же, мы лечим ее тело, а не думаем о ее душе, просто не утешаем ее, сколько можем. И стал думать. Вот тут-то являются утешения Армии спасения, утешения, состоящие в том, чтобы, действуя на нервы пением, торжественной речью и тоном, поднять дух, вызвать загробную надежду. Я понимаю, как они успевают и как это им самим кажется важным, когда умирающий подбадривается и проводит в экстазе свои последние минуты. Но хорошо ли это? Мне чувствуется, что нехорошо. Я не мог бы это делать. Сделавши это, я умер бы от стыда. Но ведь оттого, что я не верю. Они же верят. Этого я не могу делать; но что-то я могу и должен делать — делать то, что я желал бы, чтобы мне делали; желал бы, чтобы не оставили меня умирать, как собаку, одного, с моим горем покидания света, а чтобы приняли участие в моем горе, объяснили мне, что знают об этом моем положении. Так мне и надо делать. И я пошел к ней. Она сидит, опухла — жалка и просто — говорит. Мать ткет, отец возится с девочкой, одевая ее. Я долго сидел, не зная как начать, наконец спросил, боится ли она смерти, не хочет ли? Она сказала просто: да. Мать стала, смеясь, говорить, что девочка двенадцати лет, сестра, говорит, что поставит семитную свечку, когда Домашка умрет. Отчего? Наряды, говорит, мне останутся. А я говорю, я тебя работой замучаю, ты за нее работай. Я, говорит, что хочешь буду работать, только бы наряды мне остались. Я стал говорить, что тебе там хорошо будет, что не надо бояться смерти, что бог худого не сделает нам ни в жизни, ни в смерти. Говорил дурно, холодно, а лгать и напускать пафос нельзя. Тут сидит мать, ткет, и отец слушает. А сам я знаю, сейчас только сердился за то, что вид сада, который я не считаю своим, для меня испортили.