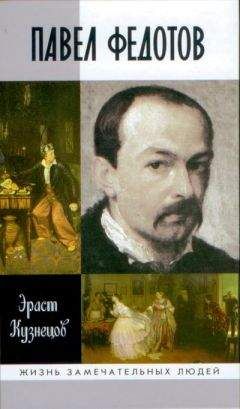Михаил Авдеев - Тетрадь из записок Тамарина
— Не все ли равно, — сказал я, — какой бы дорогой ни дойти до цели.
— Да, только вы всегда приведете к своей. Я невольно улыбнулся.
— Чтобы доказать вам противное, — отвечал я, — я принимаю вашу. Сказать по правде, я сам не знаю, что справедливо в моих словах. Но я думаю, что я сегодня действительно был влюблен в вас, потому что во мне осталась какая-то странная и приятная мечтательность. Что ж, вы справедливы: зачем разбивать мечту? Прозы и без того так много на свете! Мы провели сегодня чудесный день; на нас пахнуло каким-то свежим, прекрасным чувством, после которого мы беседуем, как старые друзья. Отчего же не сберечь его как редкость, как отрадное воспоминание? Отчего же, в самом деле, не допустить, что нечаянно, по странной игре случая, среди светской, мелочной и расчетливой жизни, мы наивно любили друг друга, как дети, не успев сознать этой любви, которая не пережила свежести сорванного цветка! Что нам за дело, что, может быть, это мечта нашей фантазии, когда после нее останется между нами та дружеская откровенность, то теплое чувство привязанности, которые питает друг к другу отлюбившая и мирно разошедшаяся чета!
— Да, — сказала Марион, — какое, в самом деле, нам дело! И мы останемся так, Тамарин; зачем нам бояться друг друга и вести скучную борьбу, когда можно дружно и весело встречаться вместе. Не правда ли?
Марион весело улыбнулась, личико ее вновь расцвело, и она смотрела на меня светлым вопрошающим взглядом; а мне только этого и хотелось.
— Тамарин! Вам начинать, — сказал Островский, подойдя к нам. — Вы так заговорились, что можно сделать нескромные догадки, — продолжал он, обратясь к моей даме и зло усмехаясь.
— Вы вечно с нескромными, да еще и неудачными догадками! — сказала Марион, вставая.
— За вами ответ! — продолжала она, делая тур, и голос ее тихо дрожал, как будто речь шла желанном, сердечном предмете.
— Счастлив, кто умеет закрыть книгу на ее лучшей странице! — отвечал я. — Я вам сказал уже, что ни в чем не могу отказать вам.
— Merci, Тамарин! — сказала Марион, сопровождая слова свои чудесным взглядом, между те как рука ее тихо пожала мою руку.
Я не знаю, за что благодарила она меня: за ответ или мазурку, которая кончилась; но знаю только то, что пара внимательных темно голубых глаз следила за нами во все время разговора, и эти глаза не скрывали душевной тревоги.
Вскоре начали разъезжаться. Я проводил Марион до подъезда.
«Последний звук последней речи Я от нее поймать успел; Я черным соболем одел Ее блистающие плечи…»
— Карета Домашневых готова! — закричал жандарм.
Я отступил от дверей, чтобы дать дорогу, так что меня не было видно. Осторожно прошла мимо меня Мавра Савишна, опираясь на руку лакея. Вслед за нею быстро проскользнула Варенька; салоп ее был распахнут на груди, и она была бледна как мрамор. Когда я сошел с места, мне что-то попало под ногу. Я нагнулся: это был завянувший Володин букет!
Мужчины остались ужинать.
Все уселись за отдельными столами; за одним — солидные чиновники, занимающиеся собственно ужином и разговором о делах, за другим — отставные франты, большей частью усатые и здоровые фигуры. С этого стола слышалось частое хлопанье пробок, нестройный разговор, со словами «пальма», «половой», «без угонки» и так далее. Был еще стол юных кавалеров, которые так часто встречаются на губернских балах. Это были все еще безбородые, не кончившие курс надежды семейства, довольно красивенькие лица, изысканно одетые местным портным и пламенно добивающиеся четырнадцатого класса, чтобы иметь право предложить руку ей. Им очень хотелось поместиться с нами; но я, Островский и Федор Федорыч заняли маленький стол таким образом, что на нем не было места четвертому. Федор Федорыч жаловался на усталость, хотя сидел почти весь вечер; я усердно молчал, а Островский плотно ел, хорошо запивал и болтал без умолку. Наконец ему надоело говорить одному.
— Однако ж это скучно, господа! Вы точно наложили обет молчания. Положим, Федору Федорычу лень языком шевелить, а ты что затих? — спросил Островский, обращаясь ко мне.
— Некогда было говорить. Ты не давал времени.
— Вздор! Ты, верно, размышлял о какой-нибудь жертве? Не правда ли, Федор Федорыч? Федор Федорыч молча кивнул головой.
— Я не в тебя, — отвечал я.
— Кстати! Что это значит? Ты, кажется, начал находить, что брюнетки лучше блондинок?
— Напротив! Блондинов стали находить хуже брюнетов.
— Марион, кажется, не этого мнения. Скажи, пожалуйста, где ты достал ей букет?
— Посылал к Ш* в деревню.
— А у Вареньки твой же был?
— Нет, от Имшина.
В это время человек подал нам три стакана шампанского.
— Кто прислал? — спросил Островский, протягивая руку.
— Владимир Иванович, — отвечал лакей.
— Вот легок на помине! Имшин, что с вами! Вы сегодня особенно любезны: дамам подносите букеты, а мужчинам шампанское.
— Ничего! Так! — отвечал Имшин, подходя к нашему столу. — Весело, так и пьется! А вы, Сергей Петрович? — спросил он, обращаясь ко мне.
— Благодарю вас: я не пью шампанского.
— Как же это можно?
— Как видите!
— А если б я вам предложил выпить за чье-нибудь здоровье?
— Я бы отказался: мне свое дороже всех!
— А чье бы вы здоровье предложили? — спросил Островский. — Злодей Имшин! Я знаю, сгубил он сегодня одно сердце и уничтожил кой-кого!
Имшин самодовольно улыбнулся.
— Где нам! Вот я люблю вас, князь. Вы никогда не отказываетесь. Федор Федорыч, вы за чье здоровье выпьете?
— За свое, — отвечал Федор Федорыч.
— Эгоисты! — сказал Островский. — Мы с вами не таковы, Имшин. Здоровье ее! Так, что ли? — И Островский подмигнул и усмехнулся.
— Идет! Чокнемтесь, князь! — И Володя протянул стакан.
— Постойте, господа, — сказал я. — Это слишком неопределенно. Ее! Она! Это дурной тон, это водилось пять лет назад. Нынче люди откровеннее и не прибегают к местоимениям.
Имшин вопросительно посмотрел на Островского.
— Тамарин прав, — сказал Островский. — В самом деле, я могу пить за одну ее, а вы за другую ее. Определимте как-нибудь положительнее.
— Только без собственных имен, — прибавил Федор Федорыч.
Имшин был в затруднении.
— Ну… ну… за здоровье моего букета! — сказал Имшин, и лицо его прояснилось, как будто ему удалось вынырнуть из воды.
— Вот это дело! Каково придумал, злодей Имшин! Здоровье букета!
Островский чокнулся с ним, и оба залпом выпили стаканы.
— Теперь вы можете получить его, — сказал я, обратившись к Володе. — Он мне попался под ногу в швейцарской.
— Быть не может! — отвечал он, вспыхнув.
— Можете удостовериться! — отвечал я смеясь.
Имшин пробормотал что-то сквозь зубы, отошел от стола и немного погодя скользнул в двери потом он не возвращался.
— Разодолжил! — сказал Островский, протягивая мне руку.
Мы посмеялись и разъехались.
Я вынес от этого дня какое-то неопределенное чувство, похожее на отдых от сильной душевной усталости. Этим только я могу объяснить себе разрыв с Варенькой и странный разговор мой с Марион.
Меня утомили мои бесцельные и тревожные встречи с Варенькой.
Я был доволен, что покончил на время с нею, и очень хорошо сделал, что дал Имшину предлог сердиться на нее. Завтра у них будет объяснение. Она увидит, что была не права перед ним, и, по своей доброте, постарается любезностью загладить невольную обиду. Он истолкует это в свою пользу и вот завязка! Скучно только, что я предвижу ее, а то бы она заняла меня. Но нечаянное столкновение мое с Марион очень оригинально. В сущности, я остался ни при чем и даже отрекся от волокитства за нею на будущее время. Впрочем, отчего ж не разыграть иногда в несколько часов роман с безгрешной развязкой? Хоть вообще я не охотник до сладеньких сцен, но приятно иногда отречься от так называемых нечистых помыслов, в особенности когда надоедят хлопоты, с которыми они достаются, погрузиться усталой душой в ванну тепленьких ощущений и вместе с полными силами вынести оттуда чистую привязанность хорошенькой женщины. Неужели я начал уже стареться!
Тетрадь из записок Тамарина (окончание)
Вот уже несколько недель, как я заболел. Именно это было с бала в собрании. Я тогда еще чувствовал какое-то странное расположение духа, а это было начало болезни. Болезнь была сложная — перемежающаяся хандра с примесью апатии. Постоянная хандра может продолжаться только несколько дней. В промежутках была апатия. Иногда все казалось мне в таком свете, что не хотелось бы ни на что смотреть; иногда я был до такой степени равнодушен ко всему, что, объяснись мне тогда в любви хорошенькая женщина, я бы отвечал ей очень учтивой благодарностью.
Все это время я ничего не сделал, что бы стоило записать сюда. Виделся часто с Марион: она была нежна и заботлива, как со старым и больным другом; сначала мне это нравилось, но потом я привык к ее участию. Я хорошо вошел в свою роль с нею, и ей на первый раз выпал не очень завидный жребий — няньчиться с моими капризами; но — странная вещь! — она очень хорошо выдержала испытание и никогда не скучала им. Женское сердце чрезвычайно сложно: в нем бывают привязанности, которые не знаешь куда поместить, в разряд любви или дружбы. Она и во мне возбудила странное сочувствие. Я не люблю ее, а между тем невольно привязался к ней. Я не смотрю на нее как на хорошенькую женщину, — а между тем не будь она почти красавицей, она бы надоела мне. Какая же пружина движет это чувство? Неужели самолюбие?… Вечно самолюбие!