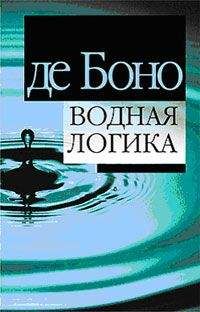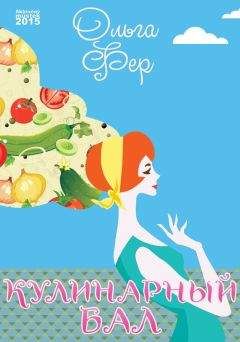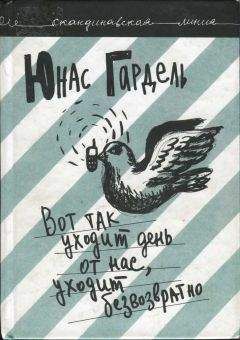Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь
Меня требовал к себе судья, и не простой, а, как с уважением сказал милиционер, главный. Суд находился недалеко от милиции, и мы пошли пешком: впереди я, поддерживая спадающие брюки, а за мной с выражением служебного рвения на лице молодой милиционер; он был очень горд за меня, что меня будет судить не какой-нибудь судья, а главный. У входа в суд нас поджидал капитан Киселев с папкой в руках. Я упрекнул его в том, что он обманул меня у прокурора, но он ничего не ответил, а когда я сказал, что вот как быстро все делается - не успели меня арестовать, как уже судят, Киселев удивленно возразил, что судья просто хочет поговорить со мной.
Вместе с Киселевым поднявшись на второй этаж и пройдя через маленький судебный зал, мы вошли в кабинет главного судьи Фрунзенского района Яковлева. Судья, с плешью, тянувшейся от лба почти до затылка и как бы разделявшей голову на две части, где росли вьющиеся волосы, с курносым сальным носом и с выражением лица человека из низов, пробившегося в начальники, мне сразу крайне не понравился, и я подумал, что если меня будет судить он, то ничего хорошего ждать не приходится. У него в кабинете на диване сидел молодой человек небольшого роста, наголо остриженный, с глазами очень черными. Судья, когда мы вошли, еще продолжал разговор с ним и сказал ему, чтобы он сходил куда-то узнать насчет работы и чтобы купил себе в любой аптеке антабус, так что можно было подумать, что этот человек страдает алкоголизмом.
Когда он вышел, судья, обернувшись к Киселеву, спросил: "Знаете, кто это такой?" Киселев не знал. "Это Пушкин - продолжал судья, - своего рода артист среди московских карманников". Я подумал, что кличку "Пушкин" ему дали за некоторое сходство с поэтом, а судья продолжал, обращаясь к Киселеву, но бросая косые взгляды на меня, так что я понял, что эта история предназ-начена для меня: "Он прислал мне письмо из лагеря, что обманул меня на суде, сказав, что кончил семь классов, но что в лагере семилетку кончит, и действительно закончил. Мы с ним переписыва-лись, и я подал в Верховный совет РСФСР прошение о досрочном его освобождении. А это сложное дело", добавил судья. Верховный совет освободил его досрочно, или же отменил приговор, или же помиловал, точно не помню, во всяком случае карманник, или по-блатному, щипач, Пушкин вернулся в Москву, и теперь судья Яковлев устраивал его на работу и лечил от алкоголизма. Рассказав все это, судья победно посмотрел на меня, как бы говоря: "Что вы теперь скажете?!" - и уже после этого взял у Киселева папку с моим делом.
Как я и ждал, первое, что он спросил: почему я не работаю?
Я вкратце повторил все то, что уже говорил в милиции. Судья, который рассматривал мою трудовую книжку, стал расспрашивать меня, что я умею делать, и выяснилось, что я умею делать весьма немногое. Затем судья спросил о здоровье и, узнав, что у меня больное сердце, посмотрел в военный билет. Там было сказано, что медицинской комиссией я "признан негодным в мирное время, в военное время годен к нестроевой службе".
- Ну да, такие люди во время войны назывались обозниками, - сказал Яковлев, поджимая губы и всякими иными способами изображая презрение к моей строевой непригодности.
- Без обозников тоже нельзя, - вступился за меня Киселев.
Яковлев нехотя согласился и перешел к другой теме.
- А что за иностранцы у вас бывали? - спросил он.
Я сказал, что собираю картины молодых художников, и ко мне заходили иностранцы посмот-реть живопись. За границей, продолжал я, сейчас большой интерес к современной русской живо-писи, и как я слышал, одному русскому художнику, Звереву, иностранные коллекционеры устроили выставку в Париже. Сказав это, скорее из озорства, чем из каких-либо других соображений, я понял, что сделал глупость.
- А что же теперь стало со Зверевым? - спросил судья.
- Насколько я знаю, ничего, - ответил я.
- Интересно бы посмотреть, что это за картины, - продолжал Яковлев и спросил у Киселева, делали ли у меня обыск. Иной возможности посмотреть картины он, видимо, себе не представлял. Киселев ответил, что не делали.
- Вот вы знаете хоть одного художника, который получил бы признание не у себя на родине, а за границей? - спросил меня Яковлев проникновенным тоном.
- Да, - сказал я, - например, американский художник Раушенберг получил сначала признание во Франции.
- Я спрашиваю не об американцах, - раздраженно возразил судья. - Кого из русских художников вы знаете, пусть даже модернистов?
- Сколько угодно, - сказал я, - Кандинский, Шагал, Сутин, Архипенко, Малевич, да чуть ли не все вообще значительные русские художники XX века.
- Для кого же, по-вашему, писали эти художники? Для кого вообще нужна живопись?
- Это сложный вопрос, - сказал я.
- А в Третьяковской галерее вы когда-нибудь бывали? - спросил Яковлев.
- Бывал, - скромно ответил я.
- Вы знаете, кто написал картину "Всюду жизнь"?
- Ярошенко, - сказал я. - На этой картине, написанной в прошлом веке, сквозь зарешечен-ное окно зеленого железнодорожного вагона заключенные смотрят на голубей.
- Этот художник писал для народа, - сказал Яковлев. - Любой русский мужик-лапотник считал эту картину своей. Художники должны писать не для каких-то там любителей, иностран-ных или даже отечественных, а для народа, только тогда это будут настоящие художники.
Я не очень хотел вступать с судьей в разговоры об искусстве, но все-таки решил ответить ему, встав на его же точку зрения, что художник "должен писать" для кого-то.
- По-видимому, для той части народа, - сказал я, - которой интересна живопись, ведь народ не какая-то однородная масса с одинаковыми интересами. Одним интересна музыка, другим живопись, третьим спорт, четвертым техника, а кому-то вообще ничего не интересно.
А кроме того, мог возразить я ему, если "художник должен писать для народа", то между ним и народом не должно стоять средостения в виде малограмотных начальников, определяющих, что годится народу, а что нет.
Яковлев только сокрушенно качал головой, слушая меня. На этом разговоры об искусстве кончились.
Я сказал Яковлеву, что по Москве ходят слухи о скорой отмене указа о "тунеядцах" и спросил, правда ли это. Слухи эти ходили уже несколько месяцев, и я еще раньше говорил о них Киселеву. "Правильно сделают, если отменят, - сказал мне в свое время Киселев, - никакого толка от указа нет, высылаем одних пьяниц".
- Нет, это неправда, - ответил Яковлев, - но действительно, группа литераторов в Москве хлопочет об отмене указа, в том числе и некоторые народные заседатели.
- Ну, а вы как относитесь к указу? - спросил я.
- Правильный указ, - сказал судья, - туда вашему брату и дорога. - И назидательно объяснил. - Родившись в советской стране, вы сразу, от рождения, получили очень много прав, но и несколько обязанностей, в том числе обязанность работать. Не хотите работать в Москве - поезжайте в Красноярский край ухаживать за чернобурыми лисицами. Они, правда, плохо пахнут, - добавил он с садистским выражением лица, - но их мех нужен стране.
Далее Яковлев разъяснил мне мои многочисленные права и малочисленные обязанности перед предстоящим судом. Суд должен состояться в течение пяти дней с момента задержания, я могу потребовать себе платного адвоката, попросить вызвать свидетелей и ознакомиться с материалами дела.
- Вы прочтите дело, раз еще не читали, - сказал мне Яковлев, словно кто-то предлагал мне познакомиться с делом и раньше, - а потом, если захотите, сразу же напишите мне заявление об адвокате и свидетелях.
Мы с Киселевым вышли в пустой судебный зал, и он протянул мне папку с документами. "Дело", как я помню, состояло из рапорта участкового, то есть того же Киселева, выписки из моей трудовой книжки, показаний двух дружинников, бывших у меня в феврале, характеристики с последнего места работы, а также собранных Васильевым моих показаний, показаний отца и показаний соседей; там же, по-моему, был ордер на задержание, подписанный прокурором.
Показания одного дружинника были кратки, другого пространны. Оба они, как выяснилось, были членами какого-то "штаба народных дружин" и оба явились ко мне на квартиру 26 февраля вместе с участковым уполномоченным 5-го отделения милиции и, как писал один из них, "с еще одним сотрудником"; другой этого "сотрудника" вообще не упоминал. У меня они застали "двух иностранных граждан и человека, называющего себя Плавинским". Далее они писали о развешан-ных по стенам картинах, специально предназначенных, как они поняли, для продажи иностранцам, потому что картины эти были написаны в мрачных тонах и "давали искаженное представление о советской действительности". Особенно возмутила дружинников картина, где был "изображен советский рубль, падающий в море рядом с полуразвалившимися домишками". Как я понял, речь шла о картине Оскара Рабина "Один рубль". Художник, испытавший косвенное влияние амери-канского поп-арта, на фоне характерного для него пейзажа московской окраины изобразил тщательно написанный огромный металлический рубль; никакого моря там, впрочем, не было. Оба дружинника заключали, что я потенциальный изменник родины и что меня нужно скорее сослать, хотя бы как "тунеядца".