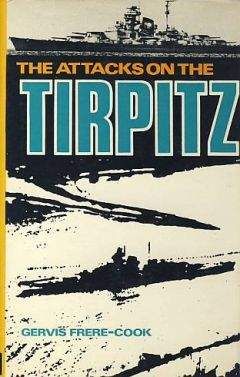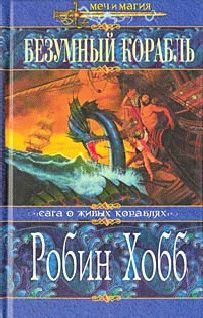Михаил Чельцов - Воспоминание смертника о пережитом
Самые суеверные люди - это так называемые безбожники. При своем неверии они очень боятся всяких несчастий жизни. Зная хорошо по всякому опыту, что далеко не все в жизни зависит от сил самого человека и что этих последних далеко недостаточно для творения жизни, они жизнь и удачи в своей работе обуславливают разными случайностями, совпадениями и т. п. Я далеко не суеверен, но постоянная мысль о возможной близкой смерти и, конечно, боязнь ее в форме расстрела и меня на Шпалерке сблизила с приметами. Понедельник первый понедельник подсмертного бытия оказался для меня радостно-приятным, значит, - по примете - и вся неделя должна быть доброй для меня. И что же? Во вторник новая приятная неожиданность.
Лежу я на койке с бесконечными смутными мыслями, гаданиями: расстреляют или нет. Вдруг открывается форточка в двери и слышится голос: "Приготовьтесь идти в ванную". От полной неожиданности такого приглашения я не сразу понял, что мне предлагается. Переспрашиваю, и только тогда усваиваю смысл. Как приятно было помыться. Ведь за все время более чем месячного тюремного жития только однажды и то плоховато мылся. Но не эта приятность была приятна; отрадно было хоть на несколько минут отрешиться от своего одиночества; думалось, что в ванной комнате я увижу хоть какое-нибудь человеческое лицо, перекинусь парой-другой слов. Но где ванная? Как к ней поведут? Собрался, жду. Через полчаса щелкает замок, открывается дверь и дежурный выпускает меня. Показывает на лестницу: спускайся-де вниз. Все это проделывается молча с обоих сторон. Внизу ждет меня другой надзиратель-банщик. Кругом ни души, впереди тоже никого не видно, кроме одного, уткнувшегося в свои дела-бумаги. Сидят на перекрестках - углах лестниц надзиратели. Назад оглядываться стесняюсь, дабы не получить какого-либо неприятного замечания. Тихо и жутко. Только стук от ног, ступающих по чугунному полу, гулко раздается эхом. Ведет меня надзиратель долго и далеко. Что-то я у своего проводника-банщика, самое безразличное и неважное, спросил. Он, оглядываясь кругом и назад, неохотно и односложно промурчал мне. Несколько раз потом я ходил с этим проводником в ванную и весь наш разговор с ним ограничивался лишь моим вопросом о том, мылся ли и когда владыка митрополит, и лишь однажды сказал мне, что наше дело, по сообщению газет, передано во ВЦИК.
Доводил банщик до отделения, где подряд было расположено 5-6 одиночных камер с ванной и душем. Впустивши, запирал ванную на ключ и оставлял мыться в одиночестве, как и сколько угодно. Я ни разу не замечал, чтобы он подглядывал в дверной глазок, и тут находящийся, за моим поведением в ванной. Спасибо ему за это, что он не смущал и не тревожил хотя во время мытья. Ванная - очень хорошая. Мылся я в ней всякий раз с удовольствием. Как будто я не в тюрьме, отправляя эти общеобывательские операции. Через неделю меня снова пригласили в ванную. Ну, думаю, это хорошо: ванная каждую неделю. И в дальнейшем более или менее регулярно ванная предоставлялась. Возвращались мы в камеру с банщиком так же тихо и сумрачно, как и шли.
Сколько раз мне хотелось увидеть кого-либо из своих в этих путешествиях; но никого не видал. Только в последний раз я встретил по пути из ванной идущим туда Богоявленского и мог даже расцеловаться с ним. Но это было уже в день отправления нас во 2-й исправдом. Шпалерка встретила нас мрачно и подозрительно, выпроводила же, побаловав на прощание доброй ванной.
Итак, начавшееся в понедельник доброе настроение поддерживалось и во вторник. Я разохотился к дальнейшему. Среда, четверг - ничего, все обычно. Примета как будто не оправдалась. Пятница. Но в пятницу я получил великую радость.
В пятницу, я с половины дня, стал ожидать передачи, рассчитывая по примеру понедельника и по образцу других тюрем, что мне ее принесут в камеру и среди дня. Но часы шли, а передачи все не было. Мрачные мысли поползли в голове. Да будет ли передача? Быть может, лишь первую передали и то в виде исключения, а последующие не допускаются. Не разрывается ли связь с миром и через передачи, как ее не допустили мне через письма? С такими мыслями я пробыл до 10 часов вечера, когда щелкнувший дверной ключ возвестил мне о приходе кого-то. Входит надзиратель и приглашает идти за передачей. Куда идти? - вниз, в комнату отделенного, где раздача передач. Радостный, с сильно бьющимся сердцем, бегу. Вхожу в комнату отделенного в надежде встретить кого-либо из своих. Но в комнате, кроме отделенного - ни души. На полу громадный ворох оберточной бумаги от уже разобранных передач. На прилавке кучей, беспорядочно, сложены всякие продукты. Спрашивают мою фамилию, дают книгу для расписки в получении передачи. В книге только одна строка с моей фамилией открыта, а что выше и что ниже ее, закрыто бумагой, так что видеть росписи и фамилии других получателей совершенно нельзя. Впоследствии появилась даже папка с отверстием на одну строку для росписи в ней получателя. Абсолютная изоляция простиралась сюда, чтобы подчеркнуть наше полное одиночество и тем отягчить и без того нерадостное положение смертника. Передачу дают мне сложенную в самом безобразном, хаотичном беспорядке; не только все изрезано, измято, запачкано, но сброшено на скатерть как и куда попало. Но разбираться ли в этом?.. Не передают ни одного клочка, не только белой простой бумаги, но даже и советской газеты.
Собираю всю массу положенного и бегу наверх. Письма никакого не дали, да я его и не ждал, убедившись из всего предшествующего, что никакая переписка с миром живых людей невозможна. С нервной дрожью в руках, у себя в камере, начинаю рассматривать присланное. Смотрю салфетку - один узел развязан и два ее конца болтаются, а другие два еще завязаны. Взявшись за неразвязанную сторону, ощущаю руками бумажку. Что это значит? Нервно развязываю, и о чудо! Письмо от семьи... Читаю и какая радость!.. Сколько раз я перечитывал это письмо. Я его заучил наизусть. В нем сообщалось, что сын Павел работает где-то на очистке и переноске плугов, - значит семья не остается без куска хлеба. И какая за это благодарность Господу, не оставляющему нас без попечения Своего!..
Особенно неожиданно было сообщение, что дочь Аня уехала вместе с Юлией Семеновной в Москву. Уже никоим образом я не предполагал, что кто-либо решил хлопотать за меня, попавшего в столь важного и опасного государственного преступника. А тут еще Аня - 17 летняя девочка - в ходатайницах!.. Конечно, она лишь представительница страдающей семьи, а хлопотать, просить будет кто-то другой, имеющий в высоких московских сферах связи и надеющимся на них. Но кто же это? Юлия Семеновна? Но кто она? Много и долго я ломал голову, гадая об этой Юлии Семеновне. Попадал мысленно на ту Юлию Семеновну, которая и ездила действительно, как впоследствии я узнал, и больше всего на ней своей мыслью останавливался; но до конца сидения на Шпалерке эта "Юлия Семеновна" оставалась загадочным иксом.
И сейчас, т. е. в феврале 1923 года, когда то время далеко отошло, я этот день, день получения письма, при таких исключительных условиях - самого тщательного просмотра даже дна бутылки из-под молока и при недопущении в камеру смертника даже малюсенького клочка всякой бумажки, - считаю одним из светлых и радостных дней всей моей жизни. Ко мне приходит письмо целое, положенное так открыто, почти на виду, - положенное как будто для того и так, чтобы его непременно нашли и прочитали! Я в этом увидел то, что одно только в нем и можно видеть и что никакими случайностями объяснить нельзя. Я увидел, что Господь меня еще не покинул совершенно, что он сделал так, что самые зрячие и прыткие просмотрщики не доглядели и так чудесно пропустили ко мне это письмо. Для чего Господь устроил это? Чтобы поддержать и подкрепить меня в эти исключительно тяжелые дни жизни. Эти мои мысли были подкреплены через три дня таким же явственно чудесным образом.
Я пришел за передачей, и мне было подано письмо от семьи. Но это было только начало с безынтересным перечнем присылаемого. Я как-то машинально, больше про себя, чем вслух, заметил, а где же конец письма? Услыхавший отделенный тоже совершенно машинально, как бы не сознавая делаемого, обращается к валяющимся на полу кучам мусора из бумаг и веревочек и подает мне два клочка от присланного мне письма. Эти клочки, как непропущенные самими цензорами, были оторваны и брошены, как вредные для моей изоляции. Как это все произошло? Кто побудил надзирателя сделать что-то невероятное? Как он мог - сам по себе - сделать противное себе и тому, что им было сделано сознательно и с его точки зрения правильно и законно? Какая-то Неведомая Сила его обратила как бы в маньяка, машину. И как он мог из большой кучи мусора, очень быстро - через какую-нибудь минуту, добыть два клочка именно моего письма? Как они там не завалялись и не затерялись?.. Кто-то, т. е., конечно, Господь Бог творил все это ... Из этих двух клочков я узнаю, что поездка Ани в Москву увенчалась добрым успехом и что дома поэтому все очень спокойны.

![Майкл Муркок - Скиталец по морям судьбы / The Sailor on the Seas of Fate [= Моря судьбы]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)