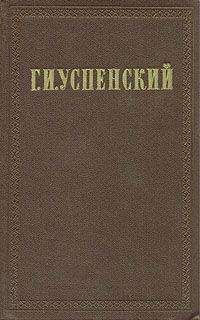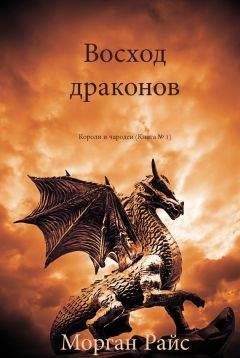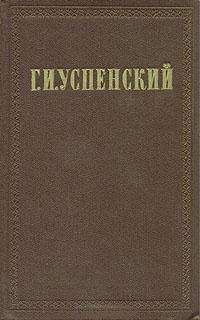Глеб Успенский - Крестьянин и крестьянский труд
Построенное на таком прочном, а главное, невыдуманном основании, как веления самой природы, миросозерцание Ивана Ермолаевича, создавшее на основании этих велений стройную систему семейных отношений, последовательно, без выдумок и хитросплетений, проводит их в отношениях общественных. На основании сельскохозяйственных идеалов деревенский человек ценится во всех своих общественных и частных отношениях; на них построены отношения юридические, а опытом, вытекающим из них, объясняются и оправдываются и высшие государственные порядки. Требованиями, основанными только на условиях земледельческого труда и земледельческих идеалов, объясняются и общинные земельные отношения: бессильный, не могущий выполнить свою земледельческую задачу по недостатку нужных для этого сил, уступает землю (на что она ему?) тому, кто сильнее, энергичнее, кто в силах осуществить эту задачу в более широких размерах. Так как количество сил постоянно меняется, так как у бессильного сегодня — сила может прибавиться завтра (прдрос сын или жеребенок стал лошадью), а у другого может убавиться (отдали, наконец, Паланьку, издохла корова и т. д.), то "передвижка" — как иногда крестьяне именуют передел — должна быть явлением неизбежным и справедливым. Эти же сельскохозяйственные идеалы — и в юридических отношениях: имущество принадлежит тому, чьим творчеством оно создано… Его получает сын, а не отец, потому что отец пьянствовал, а сын работал; его получает жена, а не муж, потому что муж олух царя небесного и лентяй и т. д. Объяснения высшего государственного порядка также без всякого затруднения получаются из опыта, приобретаемого крестьянином в области только сельскохозяйственного труда и идеалов. На основании этого опыта можно объяснить высшую власть: "нельзя без большака, это хоть и нашего брата взять". Из этого же опыта наглядно объясняется и существование налогов: "нельзя не платить, царю тоже деньги нужны… это хоть бы и нашего брата взять: пастуха нанять, и то надо платить, а царь дает землю… Курица, и та яйца не снесет, ежели ей корму не дать, а царь за всем глядит…" Началась война с славянами, с афганцами — опять хоть дело и трудное, но не несогласное с миросозерцанием Ивана Ермолаевича. "Славян нельзя не отбить, потому свой брат… Вот, когда осиновцы сгорели, тоже мы ведь помогали, потому с нами что приключится — и осиновцы помогут…" Афганцев бьют — потому беспокоят… "Это хоть бы и у нашего брата доведись… Станут к тебе суседние ребята в огород лазить, капусту воровать — хочешь не хочешь, а должон взять палку, выгнать оттудова…" Словом, с точки зрения Ивана Ермолаевича, как и вообще "хорошего" земледельца-крестьянина, кажущееся мне влачение по браздам, бесплодное, тяжкое существование — оказывается явлением вполне объяснимым, а главное вовсе не влачением, а существованием, основанным на известных, притом непоколебимых законах, существованием, в котором осмыслен каждый шаг, каждый поступок, определена каждая вещь, определен и вполне объясним каждый поступок. Войдя в этот мир и вполне проникнувшись сознанием законности и непреложности всего существующего в нем, посторонний деревне, хотя бы и озабоченный ею человек должен невольно оставить свою фанаберию, и если он не сумеет думать так, как думает Иван Ермолаевич, и притом не убедится так же, как убежден Иван Ермолаевич, что иначе думать, при таких-то и таких-то условиях, невозможно, то решительно должен оставить втуне все свои теории, выработанные на почве совершенно иной. Тронувшись, например, судьбой Паланьки и Алешки, положим, что я начну разговор о деспотизме, — но Паланьки и Алешки сами докажут: мне, что вовсе не нуждаются в моем заступничестве потому-то и потому-то и что иначе нельзя. Я начну придираться к нечистоте двора, на котором гниет масса навозу, а Иван Ермолаевич опять мне докажет, что нельзя без этого, что навоз первое дело, что вывозить его надо во-время, и он знает, когда это надо сделать; словом, выйдет так, что навоз должен быть в том самом виде и на том самом месте, в каком виде и в каком месте он находится. Я начну колебать его суеверие и в этих видах представлю в юмористическом тоне, как поп собирает пироги и т. д. Но окажется, что юмористических черт в этом отношении у Ивана Ермолаевича накоплено гораздо более, чем у меня, а принципа, олицетворяемого им, я ничуть не поколеблю, потому что поп нужен Ивану Ермолаевичу. У Ивана Ермолаевича есть грехи, которые ему не может отпустить ни староста, ни кабатчик, ни даже губернатор, а отпускает только поп. Господь дал ему урожай, в благодарность за это Иван Ермолаевич ставит свечку и делает это только при посредстве попа, так как не в почтовой же конторе ему ее ставить и не в волостном правлении. Везде своя часть. "Он хоть и не дюже человек хороший и зашибает, — говорит Иван Ермолаевич о попе, — а нельзя… Вот и почтмейстер на станции тоже пьянствует — а через кого отправишь письмо?" Стало быть, все стоит на своих местах, и Иван Ермолаевич вовсе не "влачится по браздам", а живет, во-первых, полною, а во-вторых, осмысленною жизнью. В условиях земледельческого труда почерпает он философские взгляды; в условиях этого труда работает его мысль, творчество; в этом же труде обретает он освежающие душу поэтические впечатления; на основаниях этого труда строит свою семью, строит свои общественные, частные отношения, и из условий всего этого составляется взгляд на общую государственную жизнь.
Проникнувшись непреложностью и последовательностью взглядов, исповедуемых Иваном Ермолаевичем, я почувствовал, что они совершенно устраняют меня с поверхности земного шара… Все мои книжки, в которых об одном и том же вопросе высказываются сотни разных взглядов, все эти газетные лохмотья, всякие гуманства, воспитанные досужей беллетристикой, все это, как пыль, поднимаемая сильными порывами ветра, было взбудоражено естественною "правдою", дышащею от Ивана Ермолаевича… Не имея под ногами никакой почвы, кроме книжного гуманства, будучи расколот надвое этим гуманством мыслей и дармоедством поступков, я, как перо, был поднят на воздух дыханием правды Ивана Ермолаевича и неотразимо почувствовал, как и я и все эти книжки, газеты, романы, перья, корректуры, даже теленок, не желающий делать того, чего желает Иван Ермолаевич, — все мы беспорядочной, безобразной массой со свистом и шумом летим в бездонную пропасть…
V. СМЯГЧАЮЩИЕ ВИНУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
…Поражение было до такой степени чувствительно, что некоторое время я положительно не мог опомниться; но мало-помалу сознание стало возвращаться ко мне, и, не желая быть погребенным заживо, я невольно стал выказывать кое-какие попытки к борьбе за свое существование и в этих видах остановился на вопросе о том, что неужели, мол, в самом деле народу так-таки ровно ничего и не нужно, кроме "земельки", которой у него мало, и неужели все то, что известно под именем "движения в народ", есть только глупость и только преступление? Не настало ли, напротив, время из тайны и подполья вывести это дело на ясный божий свет, не пора ли определить всю серьезность, а главное обязательность этого дела для всякого русского совестливого и грамотного человека? Ведь крепостное право кончилось, а стало быть, кончилось для громадного большинства русских людей, не принадлежащих к простому народу, право праздного, бездельного существования. Не пора ли ввиду этого в такой степени прямо и серьезно поставить вопрос о народном деле, чтобы оно перестало казаться геройским подвигом, или самопожертвованием, или, наконец, делом, достойным только пропащего человека. Наши города и столицы переполнены народом образованным и грамотным, для которого, однако, карьера волостного писаря или сельского учителя представляется почти таким же ужасным исходом жизненного поприща, как и карьера кабачного сидельца. Охотников до "центров" и благ, расточаемых ими, хотя далеко на всех нехватающих, слишком много воспитано на русской земле; для деревни же остаются одни кабатчики и люди, которые "отчаялись" в своих карьерах. Но для того, чтобы скромная работа в деревне не казалась ни адом, ни каким-то необыкновенным героическим поступком, а простою и серьезнейшею обязанностью всякого человека, существующего несомненно на народные деньги, для этого, повторяем, дело народное должно быть выяснено во всей своей обширности, во всем своем патриотическом значении, во всей своей многосложности. Только это выяснение дела и даст устойчивые, захватывающие душу идеалы, прольет иной свет на некоторые приемы народного дела, считающиеся ныне злом, и очистит это дело от осложнений, нимало его не касающихся.
Главнейшею причиною того, что народное дело непременно должно быть выяснено в самой строгой беспристрастности и, если угодно, бесстрашии, служит чрезвычайно важное обстоятельство, замеченное решительно всеми, кто только мало-мальски знает народ, что стройность сельскохозяйственных земледельческих идеалов беспощадно разрушается так называемой цивилизацией. До освобождения крестьян наш народ не имел с этой язвой никакого дела; он стоял к ней спиной, устремляя взор единственно на помещичий амбар, для пополнения которого изощрял свою природную приспособительную способность. Теперь же, когда он, обернувшись к амбару спиной, стал к цивилизации лицом, дело его, его миросозерцание, общественные и частные отношения — все это очутилось в большой опасности. Ибо цивилизация эта, как кажется, имеет единственной целью стереть с лица земли вое вышеупомянутые земледельческие идеалы. Ведь вот стерла же она с лица земли русскую бойкую, "необгонимую" тройку, тройку, в которой Гоголь олицетворял всю Россию, всю ее будущность, тройку, воспевавшуюся поэтами, олицетворявшую в себе и русскую душу ("то разгулье удалое, то сердечная тоска") и русскую природу; все, начиная с этой природы, вьюги, зимы, сугробов, продолжая бубенчиками, колокольчиками и кончая ямщиком с его "буйными криками", — все здесь чисто русское, самобытное, поэтическое… Каким бы буйным смехом ответил этот удалец-ямщик лет двадцать пять тому назад, если бы ему сказали, что будет время, когда исчезнут эти чудные кони в наборной сбруе, эти бубенчики с малиновым звоном, исчезнет этот ямщик со всем его репертуаром криков, уханий, песен и удальства и что вместо всего этого будет ходить по земле какой-то коробок вроде стряпущей печки и без лошадей и будет из него валить дым и свист… А коробок пришел, ходит, обогнал необгонимую. Необгонимая позвякивает своими малиновыми бубенцами на весьма ограниченном пространстве — Конюшенная — Ливадия — Нарвская застава — Конюшенная — только и ходу для необгонимой!.. Что же будет, ежели паче чаяния эта ядовитая цивилизация вломится в наши палестины хотя бы в виде парового плуга? Ведь уж он выдуман, проклятый, ведь уж какой-нибудь практический немец, в расчете на то, что Россия страна земледельческая, наверное выдумывает такие в этом плуге, усовершенствования, благодаря которым цена ему будет весьма доступная для небогатых земледельцев. Ведь, кроме того, немец может устроить и рассрочку и разные снисхождения — словом, придумает и так или сяк водворит этот плод цивилизации в наших палестинах, и что тогда может произойти, поистине вымолвить будет страшно. Все, начиная с самых, повидимому, священнейших основ, должно если не рухнуть, то значительно пошатнуться и во всяком случае положить начало разрушению… Так как плуг вздирает землю и в дождь и в грязь, то количество восковых свечей должно несомненно убавиться. Кроме того, в значении власти большака получится значительный пробел, а следовательно, и сомнение в необходимости подчинения его указаниям, да и указаний-то этих убавится сразу более чем наполовину; громадная брешь образуется и в мирских делах, ибо плуг, вздирая "по ряду" всю мирскую землю, уничтожает все эти колушки, и значки, и границы… Масса серьезнейших мирских дел оказывается ненужными. Паланька явно не пожелает долее подчиняться требованиям разрушенных идеалов и освободится вместе с освобожденными плугом лошадьми. Произойдет опустошение во всех сферах сельскохозяйственных порядков и идеалов, а на место разрушенного ничего не поставится нового и созидающего. И батюшка начнет произносить грозные проповеди о развращении нравов. Да что плуг! Плуг — это покуда праздная фантазия, но беды цивилизации несут к нам такие, повидимому, ничтожные вещи, которые в сравнении с плугом то же, что папироска с Александровской колонной. Какая-нибудь керосиновая лампа или самый скверный линючий "ситчик" — и те, несмотря на свою явную ничтожность, тем не менее наносят неисцелимый вред порядкам и идеалам, основанным и вытекающим из условий земледельческого труда. Керосиновая лампа уничтожает лучину, выкуривает вон из избы всю поэтическую сторону лучинушки, удлиняет вечер и, следовательно, прибавляет несколько праздных часов, которые и употребляются на перекоры между бабами, главной причиной раздела и упадка хозяйства. А "ситчик" по десяти копеек аршин! — уж на что, кажется, дрянь, и притом самая линючая, а от появления его баба разогнула спину, бывало согнутую над станком; но, разогнув ей спину и дав, таким образом, массу праздного времени, времени, еще недавно поглощенного ужасным трудом, он тем самым дал волю ее наблюдательности, развязал язык и усилил семейные несогласия. А чай? сахар? табак? сигары? папиросы? пиджаки? Разве все это благоприятствует сохранению типа "настоящего" крестьянина?..