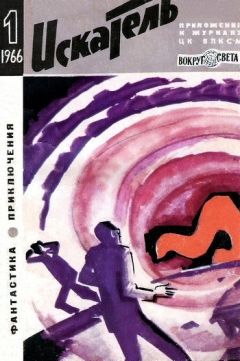Николай Некрасов - Том 7. Художественная проза 1840-1855
— Точно, точно… Лучше к нему и не ходи… Тьфу! черт возьми! да нет ли у нас гроша-то где, что и в самом деле!.. — При этих словах я обшарил все свои карманы — и засвистал протяжно:- Пусто!
— Пусто! — повторил мой милостивый государь еще плачевнее, выворачивая свои карманы.
Слезы навернулись у меня на глазах; злость закипела в душе…
— Вот до чего мы дожили… Сидим по два дни без хлеба, без дров, без чернил, — прибавил я страдальческим голосом. — Живем в гадкой каморке.
— Ничего, сударь.
— Как ничего! Глупец! Этак, если б меня посадили на кол, ты бы тоже сказал: ничего!
— Не место человека красит, а человек место, — говорит пословица. А пословицы, сударь, вещь прекрасная, сколько я мог заметить; что вы, сударь, об них ничего не напишете?
Я готов был заплакать и, по обыкновению, пуститься в проклятия стихами и прозой; но философия моего милостивого государя меня обезоружила. Этот человек, который сносил равную моей участь гораздо терпеливее меня, не раз отстранял совершенное мое отчаяние. Несмотря на простоту его, я замечал в нем гораздо больше твердости характера и потому невольно уважал его, иногда даже прибегал к его советам.
— За что же мы теперь примемся, милостивый государь? — спросил я.
— Да что, сударь, бросили бы свое писанье, коли не везет; испробовать бы другой карьеры…
— Ты опять за свое. Этого не будет, я уж сказал. Вот ты бы лучше подумал, как достать чернил.
— Терпит ли время до завтра? — спросил милостивый государь скороговоркою, с каким-то нечаянным самодовольствием…
— А кто поручится, что до завтра я не умру с голоду? Да и статью надо бы скорее.
— Батюшка-барин, — сказал милостивый государь дрожащим голосом, — потерпите до вечера… не сердитесь, что я вам скажу… У меня вон есть кусочки ситника, что намедни карандаш вытирали: вы съешьте их; оно всё на животе-то поздоровее… а я покуда добуду денег…
— Что ты, Иван? — закричал я, забыв обыкновенный тон шутки. — Где ты достанешь денег так скоро?..
— Да вот в соседние дома поношу водицы, так и заработаю что-нибудь.
— Добрый Иван! — сказал я и почти готов был обнять его.
— Оно, вот видите, барин, кабы вы так не транжирничали, и было бы хорошо; ведь еще третьеводни были у вас деньги: вы враз упекли! Хоть бы вы послушались моей просьбы да отпустили меня, так я бы нашел местечко, а деньги-то бы приносил вам… всё бы сподручнее…
— Опять за свое. Пожалуйста, не говори мне никогда об этом, — сказал я с чувством обиженной гордости и сел на стул… Изломанная ножка, кой-как подставленная, подломилась, и я упал.
— Эх, барин! говорил, не садитесь, ножка худа, я-де подставил ее только для приличия, кто взойдет, чтоб не переконфузиться: надо же ведь и тону задать!.. Виноват, батюшка… не ушиблись ли вы? — говорил милостивый государь.
Но мне было не до него. Сердце мое сильно забилось радостью; в этом падении я увидел начало своего возвышения. Да! я увидел сапоги милостивого государя; кажется, тут и нет ничего необыкновенного… Точно, точно, милостивые государи, для вас так, но для меня… увидел сапоги моего Ивана — и нашел, что бы вы думали?.. Философский камень?.. Ничуть не бывало… меня только поразила светлая, гениальная идея: видно, что в этот день на небе было что-нибудь особенное, или, может, ум мой… но я оставляю исследовать это до другого времени…
— Давай сюда поскорей мои сапоги! — закричал я милостивому государю и сам схватился за голову, опасаясь, чтоб не исчезла идея; неожиданное счастие иногда заставляет нас прибегать к излишним предосторожностям из опасения потерять его.
— Идти со двора, что ли, сударь, хотите? Ведь ваши-то сапоги очень худы… наденьте лучше мои…
— Не то! идея, братец, идея! — закричал я, держась по-прежнему за голову.
— Да ведь я вам говорю, что худы, вылетит.
— Что ты тут толкуешь! С ума, что ли, ты спятил? Давай скорей.
— Да вы посадить, что ли, в них хотите ее?..
Я вышел из терпения; надобно же случиться такой оказии, что милостивый государь вздумал рассуждать. Чтоб не терять по-пустому времени, я побежал сам за перегородку, отыскал сапоги и с торжествующей физиономией поцеловал один из них. Милостивый государь стоял, вытаращив глаза. Я потер пальцем по мокрому месту сапога… Физиономия моя еще более прояснилась. Иван пожал плечами.
— Иван, друг мой! — закричал я. — Давай скорей воды, тарелку, да нет ли какой тряпочки?.. Мы не умрем с голоду! Тебе не надобно идти носить воду… Что ж ты стоишь!
Иван, поставленный мною в тупическое положение, насилу опомнился и побежал исполнить приказание. Сердце мое шибко билось от полноты сильных сладостных ощущений; может быть, еще первый раз в жизни оно было озадачено таким полным, мощным приливом счастия. Я готов был выбежать на улицу и расцеловать первого встречного, хоть будочника, который диким беспрестанным восклицанием «кто идет?» не дает мне спать. Таких минут немного бывает в жизни!
Милостивый государь наконец достал требуемых мною вещей и явился. Я выхватил у него из рук тарелку и поставил ее на окно; набрал в рот воды, взял тряпку и таким образом остановился у окошка, держа сапог прямо над тарелкою.
— Осмелюсь вам доложить, не понимаю, что изволите делать: дельное что или просто так, шутственное?
Я взглянул на Ивана: лицо его представляло странную смесь любопытства, недоумения и какого-то глупого испуга. Мне стало смешно, а смех такая вещь, которая производится только рот разиня. Я фыркнул, и брызги воды полетели в лицо Ивана. Он обиделся.
— Не плакать бы нам, барин; после веселья всегда бывают слезы; пословица…
— Ты опять с пословицами; довольно и давешней, — сказал я и снова набрал в рот воды.
Не обращая более внимания на Ивана, я стал выпускать изо рта воду на сапог и тряпочкой смывать с него ваксу. Физиономия моя прояснилась до прозрачности, когда я увидел черные крупные капли, падающие с сапога на тарелку.
— Вот что! — произнес милостивый государь и вздохнул свободно.
— Да, вот что, милостивый государь,
— Не густы ли? — спросил Иван. Молча указал я на ковш с водою.
— То-то, а то у вас всегда так: вдруг густо, а вдруг пусто.
Через минуту чернильница моя была наполнена драгоценным составом; я приставил стул к своему ковру, положил на него бумагу, поджал под себя ноги, и пошла писать.
— Умудрил же господи раба своего! — набожно произнес милостивый государь и пошел за ширмы спать, или отдать визит пану Храповицкому, как сам он выражался.
Я уписывал уже второй лист, стараясь писать как можно разборчивее, потому что изобретенные мною чернила были не очень благонадежны; из-за ширмы слышалось уже полное, совершенно развившееся храпение милостивого государя, как вдруг в дверь мою послышался тихий стук… Я не мог растолковать себе, кто б это мог ко мне пожаловать; хозяин мой стучит сильно и смело, а больше ко мне ни собаки не ходит. Теряясь в догадках, я разбудил Ивана и велел отпереть ему, для большей важности.
— Наум Авраамович дома? — спросил робкий, дрожащий голос.
— У себя-с, — отвечал милостивый государь. — А как об вас доложить?
— Я приезжий из Чебахсар; они знают моего родителя; я Иван Иваныч Грибовников.
Я выскочил за ширмы и увидел молодого человека 45 множеством различных тетрадей под мышкой и с письмом в руке. Я оглядел его с ног до головы; черты лица его были резки и неправильны, в глазах выражалась необычайная робость, происходившая как бы вследствие сознания собственной ничтожности, нижняя губа была чрезвычайно толста, несколько отвисла и потрескалась; нос был довольно большой и несколько вздернутый кверху; волосы его, сухие, немазаные, неровно остриженные, не показывали ничего общего ни с одной из европейских причесок; зачесанные ни вверх, ни вниз, они щетиной торчали над головой, в виде тангенса к окружности; руки его были почти грязны и имели на себе несколько бородавок, расположенных почти в том же порядке, как горы на земной поверхности; ноги были кривы и двигались неровно и медленно; когда он говорил, то обыкновенно одну ногу выдвигал вперед, а другой изредка сзади в нее постукивал; кланялся он низко, очень низко, но совершенно не по тем законам, каких держится большая часть поклонников; на нем был долгополый сюртук из синего сукна, двубортный, с тальей на два вершка ниже обыкновенной, с фалдами, усаженными пуговицами, которых пара приходилась почти против пяток; желтые нанковые брюки, необыкновенно узкие, довершали безобразие ног; оранжевая с белыми полосками жилетка, загнутая доверху, пестрый ситцевый платок с китайскими мандаринами на узоре, из-за которого едва виднелась черная коленкоровая манишка, порыжевшая от времени и непредвиденных обстоятельств, и смазные немецкие сапоги на ранту — дополняли его наряд.
— Пожалуйте, пожалуйте, очень приятно… — говорил я, вводя его в дверь и путаясь в полах моей шинели.