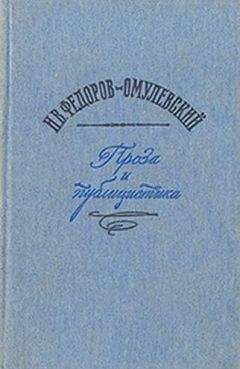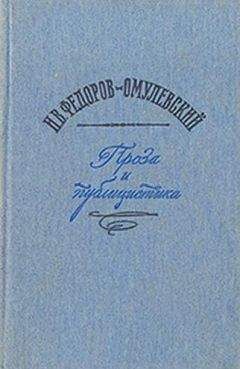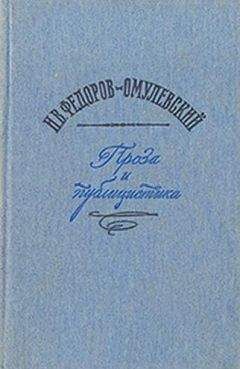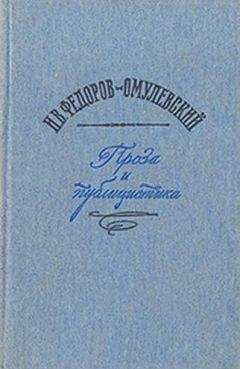Иннокентий Омулевский - Шаг за шагом
— А вы красную с луком любите? — продолжал он выпытывать.
— Непременно с луком!
— И я тоже с луком люблю, — окончательно повеселел Владимирко. — А вот Ванька, так тот прямо у рыбы из брюха ест.
— Неужели?
— Ей-богу-ну, ест; он ее оттуда выдавливает. Мама ему не дает икры, так он, как с базару рыбу несет, и выдавит.
— Вот какой хитрец! — рассмеялся Александр Васильич. — Только зачем ты его называешь «Ванькой»? — спросил он серьезно через минуту, — разве тебя кто-нибудь зовет «Володькой»?
— Нет. Да его мама так зовет, и все так зовут…
— Значит, мама нехорошо делает. Зачем же его обижать, ведь он такой же, как и ты, человек, такой же мальчик.
Владимирко широко раскрыл глаза: он еще от первого человека слышал, что его мама может что-нибудь «делать нехорошо», а его «наилюбезный камердинер» — такой же мальчик, как и он сам.
— У Ваньки ни отца, ни матери не было, — пояснил он в оправдание себя и мамы.
— Вот ты и опять так его назвал. Скажи: «У Вани».
— Ну, у Вани…
— Вот видишь ли ты, это неправда, что у него ни матери, ни отца не было. Нет такого человека на свете, у которого бы их не было; иначе он бы и родиться не мог, — сказал Александр Васильич очень серьезно.
— Да ведь Ваньку-то на улице нашли, — возразил Владимирко.
— Опять «Ваньку»! А еще мне писали, что ты его очень любишь…
— Ну Ваню, Ваню… — конфузливо поправился Владимирко.
— Что ж такое, что на улице нашли? Все-таки у него и мать была и отец; только нехорошие, видно, люди они были, коли ребенка на улицу выбросили, — заметил Александр Васильич.
— Зачем же они его выбросили?
— А уж этого я не могу тебе сказать. Это надо у них спросить.
Владимирко задумался и несколько недоверчиво покосился на брата.
— У нашей Милашки тоже мать была, а отца не было, — сказал он, как бы желая уяснить себе новую мысль.
— У какой это Милашки? Ах, да! у собаки… И у ней непременно отец был, только ты, видно, не видал как он к Милашкиной матери бегал.
— А к Милашке отчего же он не прибегал?
— Да он, может быть, и к ней прибегал, а ты не заметил.
— У воробья тоже отец и мать есть, — сказал Владимирко, на этот раз уже не с вопросом, а совершенно утвердительно.
— И у воробья есть, — подтвердил, в свою очередь, Александр Васильич.
— Смешно воробей скачет. Он — вор.
— Это отчего?
— А как же? Они все овес из конюшни у лошадей воруют.
— Отчего же непременно «воруют»? Просто знают, что там овес есть, и прилетают клевать.
— А вот же в кухню не прилетают: я на окошко насыпал.
— Да в кухне всегда кто-нибудь есть, они и боятся.
— Нет, воробей — вор, — сказал Владимирко с убеждением.
— Значит, по-твоему, и голубь тоже вор?
— Нет, он не вор: он не так людей пугается.
— Стало быть, воробей только похитрее будет, а голубь к людям больше привык, все же, по-твоему, вор выходит.
— Голубя убивать нельзя… — схитрил Владимирко.
— Да и воробья не следует убивать.
— А клопа?
— И клопа не следует убивать.
— А мама убивает клопов…
— Это еше не значит, что их следует убивать; а надо так сделать, чтоб в комнате они не разводились, — держать комнаты чисто.
— Да они в диване сидят…
— Надо сделать, значит, чтоб их и там не было.
— Да голубь ведь чистая птица?
— Чистая, коли не запачкается.
— Да нет! не то… — замялся Владимирко.
— А! знаю. Ну, чистая, чистая.
— А клоп чистый?
— И клоп чистый.
— Он пахнет.
— Что ж такое, что клоп клопом пахнет? И голубь пахнет голубем; ты понюхай-ка когда-нибудь.
Владимирко на минуту задумался, и затем лицо его приняло самое лукавое выражение.
— А мышь… чистая? — спросил он с очевидным коварством.
— Разумеется, чистая.
— Вот и врешь: мышь поганая! — засмеялся Владимирко, торжествуя.
— Что же это значит «поганая»? — смиренно схитрил, в свою очередь, Александр Васильич, прикидываясь, что не понимает значения этого слова.
— Поганая-то что значит? — переспросил Владимирко, очевидно, затрудняясь ответом.
— Да.
— Ее есть нельзя…
— Как нельзя? Ты разве пробовал?
— Чего вы еще выдумали!
Владимирко даже обиделся.
— Так как же ты говоришь, что есть нельзя, коли не пробовал?
— Мама говорит…
— А мама пробовала?
Владимирко еще больше обиделся и сделал гримасу человека, которого начинает тошнить.
— Ну уж, чего вы говорите… — сказал он несколько сердито.
— Так почему же ты думаешь, что мышь нельзя есть, коли никто не попробовал, можно ли ее, в самом деле, есть?
— А вы ели? — оправился Владимирко.
— Я тоже не ел, только не потому, что ее нельзя есть, а потому, что у нее мясо невкусное, пахнет скверно жиром.
— А вкусное было бы — съели?
— Съел бы.
Владимирко повторил свою гримасу.
— А как же вы знаете, что она невкусная, когда и сами ее не ели? — спросил он лукаво.
— А вот, видишь, есть такие люди, ученые, которые стараются все испробовать, — пробовали и мышиное мясо и нашли, что оно невкусно. Все-таки есть его можно: китайцы вон едят.
— Они сами вам это рассказывали?
— Кто? Китайцы-то?
— Нет, другие-то…
— Ах, ученые! Нет, не сами. То есть сами же, пожалуй, да только в книгах, а не лично мне.
Владимирко посматривал на брата крайне недоверчиво. Александр Васильич заметил это и сказал:
— Да вот, лучше всего, мы когда-нибудь сами поймаем мышь, сварим ее, да и попробуем, какой у ней вкус. Вкусной окажется — съедим, а коли невкусная — выбросим.
Владимирко опять скорчил было прежнюю гримасу, но сейчас же и прояснился.
— А вы где будете мышь ловить? В подполье лучше; там их много: во какие!.. — показал он двумя пальцами.
— Можно и в подполье поймать.
— А вот уж таракана, так никто не съест: он с усищами… — захохотал Владимирко.
— Я, брат, однажды съел таракана.
— Съ-е-ли? — растянул удивленно Владимирко. — Зачем съели?
— Да так, дурачился; хотел показать одной барыне, что можно и таракана съесть, не поморщившись, коли захочешь.
— Невку-у-сный? — снова растянул Владимирко, отчаянно сморщив нос.
— Нет, ничего; почти никакого вкуса нет.
— Вы мертвого или живого съели?
— Мертвого.
— А живой в брюхе будет ползать?
— Нет. Он сейчас же переварится в желудке, так что от него и следов не останется.
— Какой вы смешной! — сказал Владимирко. — А я умею по-вороньи каркать, — прибавил он вдруг.
— Ну-ка, каркни.
Владимирко каркнул очень похоже.
— А вы умеете? — спросил он у брата.
Александр Васильич тотчас же приподнялся на постели, уморительно покачал головой, подражая вороне, и так; мастерски каркнул, что у Владимирки даже слюнки потекли. Он по крайней мере с минуту после этого смотрел брату в рот, признав себя решительно побежденным.
— А сороку… — попросил он.
Александр Васильич не менее мастерски изобразил ему и сороку, даже как-то особенно забавно подпрыгнул для этого несколько раз на постели. Тут уж Владимирко пришел в совершенный восторг и, как бы в знак начавшейся дружбы, вскарабкался на брюхо к брату.
— А ты умеешь, Саша, ракетки делать? — спросил он с замирающим сердцем.
— Еще какие, брат, умею делать-то! — засмеялся Александр Васильич.
— Врешь? — допытывался Владимирко. — А красный огонь… умеешь?
— И красный огонь сделаю.
Красный огонь был для Владимирки своего рода демоническим призраком, преследовавшим его воображение с того последнего фейерверка, на котором он в первый раз увидел этот огонь.
— А ты как ракетки научился делать? — спросил мальчуган с самым живым любопытством, причем его маленькое личико, обыкновенно довольно угрюмое, сияло полнейшим торжеством.
— Сперва прочел в книге, как делаются ракеты; после попробовал сам сделать, раза три испортил, а потом ничего, хорошо вышло.
— А книга эта у тебя есть?
— Нет, не взял с собой.
— А красный огонь тоже по книге научился делать?
— Тоже по книге.
— А из чего он, Саша, делается?
— Ты не. поймешь: в него разные вещи входят, все мудреные названия.
— Ска-а-жи, Саша!.. — уморительно упрашивал Владимирко,
— Ну… азотнокислый стронциан входит, бертолетова соль входит, сернистая сурьма…
Лицо Владимирки мгновенно омрачилось: он смекнул сразу, хоть и смутно, что это уж не чета его селитре. «У-ух сколько!» — подумал он с полнейшей безнадежностью приготовить красный огонь.
— А вот постой, — сказал Александр Васильич, заметив на его лице эту безнадежность, — вон там у меня в чемодане книга есть, в красном переплете, толстая такая… дай-ка ее мне сюда.
Владимирко опрометью бросился к чемодану и мигом досгал оттуда книгу.