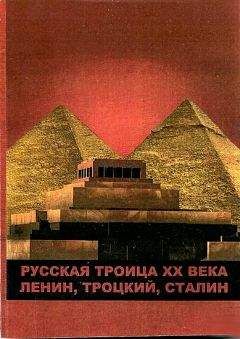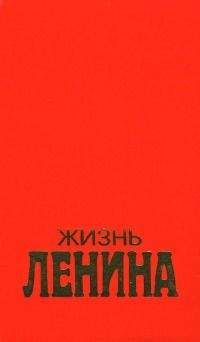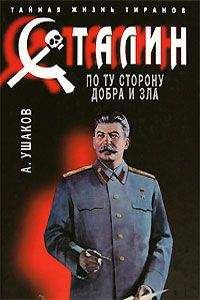Владимир Набоков - Защита Лужина
«Вот видите эти окошки, – сказал он, указывая тростью на крыло гостиницы. – Там имел место тогда турнирчик. Играли солиднейшие немецкие игроки. Мне было четырнадцать лет. Третий приз, да, третий приз».
Он снова положил руки на толстую трость тем печальным, слегка старческим движением, которое ему теперь было свойственно, и, как будто слушая музыку, наклонил голову.
«Что? Мне надеть шляпу? Солнце, говорите, печет? Нет, мне это нечувствительно. Нет, оставьте, зачем же? Мы сидим в тени».
Все же он взял соломенную шляпу, протянутую ему через столик, побарабанил по дну, где было расплывчато-темное пятно на имени шапочника, надел ее, криво улыбнувшись. Именно – криво: правая щека слегка поднималась, справа губа обнажала плохие, прокуренные зубы, и другой улыбки у него не было. И нельзя было сказать, что ему всего только пошел четвертый десяток, – от крыльев носа спускались две глубоких, дряблых борозды, плечи были согнуты, во всем его теле чувствовалась нездоровая тяжесть, и когда он вдруг резко встал, защищаясь локтем от осы, – стало видно, что он довольно тучный, – ничто в маленьком Лужине не предвещало этой ленивой, дурной полноты. «Да что она пристала!» – вскрикнул он тонким, плачущим голосом, продолжая поднимать локоть, а другой рукой силясь достать платок. Оса, описав еще один, последний круг, улетела, и он долго провожал ее глазами, машинально отряхивая платок, и потом, поставив потверже на гравий металлический стул и подняв упавшую трость, сел снова, тяжело дыша.
«Отчего вы смеетесь? Они очень неприятные насекомые, – осы». Он нахмурился, глядя на стол. Рядом с его портсигаром лежала дамская сумочка, полукруглая, из черного шелка. Он рассеянно потянулся к ней, стал щелкать замком.
«Плохо запирается, – сказал он, не поднимая глаз. – В прекрасный день вы всё выроните».
Он вздохнул, отложил сумку, тем же голосом добавил: «Да, солиднейшие немецкие игроки. И один австриец. Не повезло моему покойному папаше. Думал, что тут нет живого интереса к шахматам, а попали прямо на турнир».
Что-то понастроили, крыло дома теперь выглядело иначе. А жили они вон там, во втором этаже. Было решено остаться там до осени, а потом вернуться в Россию, и призрак школы, о которой отец второй год не смел упомянуть, опять замаячил. Мать вернулась гораздо раньше, в начале лета. Она говорила, что безумно тоскует по русской деревне, и это длинное-длинное «безумно» с таким зудящим, ноющим средним слогом было почти единственной ее интонацией, которую сын запомнил. И уехала она все-таки нехотя, – да и сама не знала, ехать ли или оставаться. Уже давно началось у нее странное отчуждение от сына, как будто он уплыл куда-то, и любила она не этого взрослого мальчика, шахматного вундеркинда, о котором уже писали газеты, а того маленького, теплого, невыносимого ребенка, который, чуть что, кидался плашмя на пол и кричал, стуча ногами. И все было так грустно и так ненужно, – эта жидкая, нерусская сирень на станции, и тюльпанообразные лампочки в спальном купэ норд-экспресса, и эти замирания в груди, чувство удушья, – быть может, грудная жаба или просто нервы, как говорит муж. Она уехала, не писала, отец повеселел и переехал в комнату поменьше, а потом, как-то в июле, маленький Лужин, возвращаясь домой из другой гостиницы – где жил один из тех сосредоточенных пожилых людей, которые с ним играли, заменяли ему сверстников, – случайно увидел на косогоре, у деревянных перил, в блеске вечернего солнца, отца с дамой. И так как эта дама была несомненно его петербургская рыжеволосая тетя, он очень удивился, и стало ему почему-то стыдно, и он ничего не сказал отцу. А через несколько дней после этого, рано утром, он услышал – отец быстро приближается к его спальне по коридору и как будто громко хохочет. Дверь с размаху открылась, и отец вошел, протягивая, словно отстраняя от себя, бумажку – телеграмму. Слезы лились у него по щекам, вдоль носа, как будто он обрызгал лицо водой, и он повторял, всхлипывая, задыхаясь: «Что это такое? Что это такое? Это ошибка, переврали», – и все отстранял от себя бумажку.
5
Он играл в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Киеве, в Одессе. Появился некий Валентинов, что-то среднее между воспитателем и антрепренером. Отец носил на рукаве черную повязку – траур по жене – и говорил провинциальным журналистам, что никогда бы так основательно не осмотрел родной земли, если б его сын не был вундеркиндом.
Он сражался на турнирах с лучшими русскими шахматистами, играл вслепую, часто играл один против человек двадцати любителей. Лужин-старший, много лет спустя (в те годы, когда каждый его фельетон в эмигрантской газете казался ему самому его лебединой песней, и Бог знает, сколько было этих лебединых песен, полных лирики и опечаток), задумал повесть как раз о таком мальчике-шахматисте, которого отец (по книжке – приемный) возит из города в город. Начал он книгу в двадцать восьмом году, – вернувшись домой с заседания, на которое он пришел один. Так неожиданно, так живо явился ему замысел этой книги, пока он сидел и ждал в отдельной комнате берлинской кофейни. Пришел он, как всегда, очень точно, удивился, что еще столики не составлены, велел лакею немедленно это сделать, спросил чаю и рюмку коньяку. Комнатка была чистая, ярко освещенная, с натюрмортом на стене: аппетитные персики вокруг разрезанного арбуза. На составленные столики, плавно взлетев, легла чистая скатерть. Он положил в чай кусочек сахару и, грея бескровные, всегда зябкие руки о стекло, смотрел, как поднимаются пузырьки. Рядом, в общем зале, скрипка и рояль играли из «Травиаты», – и от сладкой музыки, от коньяку, от вида белой скатерти старику Лужину стало так грустно, и грусть была такая приятная, что он боялся двинуться, сидел, облокотясь на одну руку и прижав палец к виску, – жилистый, красноглазый старик, в вязаном жилете и коричневом пиджаке. Играла музыка, пустая комнатка была налита светом, алела арбузная рана, – и никто на заседание не шел. Несколько раз он смотрел на часы, но потом так разомлел от музыки и чаю, что забыл о времени и стал потихоньку думать о том о сем, – о приобретенной по случаю пишущей машинке, о Мариинском театре, о сыне, так редко приезжающем в Берлин. А затем он спохватился, что сидит уже час, что скатерть все так же пуста и бела… И в этой светлой, показавшейся ему мистической пустоте, сидя за столом, предназначенным для несостоявшегося заседания, он вдруг решил, что давно не являвшееся писательское вдохновение теперь посетило его.
«Пора подвести некоторые итоги», – подумал он и оглядел пустую комнату, – скатерть, синие обои, натюрморт, – как оглядывают комнату, где родился известный человек. И фабула повести, которую старик Лужин давно лелеял, показалась ему в этот миг только что созданной, и он пригласил мысленно будущего биографа (парадоксальным образом становившегося, по мере приближения к нему во времени, все призрачнее, все отдаленнее) повнимательнее осмотреть эту случайную комнату, где родилась повесть «Гамбит». Он залпом выпил остаток чаю, надел пальто и шляпу, узнал от лакея, что нынче не среда, а вторник, улыбнулся, не без удовольствия отмечая свою рассеянность, и, вернувшись домой, сразу снял черную металлическую крышу с пишущей машинки.
Ярче всего перед его глазами стояло вот это, писательским воображением слегка ретушированное, воспоминание: светлый зал, два ряда столиков, на столиках шахматные доски. За каждым столиком сидит человек, за спиной каждого сидящего стоит кучка зрителей, вытянувших шеи. И вот, по проходу между столиками, ни на кого не глядя, спешит мальчик, – одетый, как Цесаревич, в нарядную белую матроску, – и останавливается поочередно у каждой доски, быстро делает ход или на миг задумывается, наклонив золотисто-русую голову. Если глядеть со стороны, совершенно непонятно, что происходит: пожилые люди в черном сумрачно сидят за досками, густо уставленными вычурными куклами, а легкий, нарядный мальчик, бог весть зачем пришедший сюда, в странной, напряженной тишине легко переходит от столика к столику, один движется среди этих оцепеневших людей…
Стилизованности воспоминания писатель Лужин сам не заметил. Не заметил он и того, что придал сыну черты скорее «музыкального», нежели шахматного вундеркинда, – что-то болезненное, что-то ангельское, – и глаза, подернутые странной поволокой, и вьющиеся волосы, и прозрачную белизну лица. Но теперь было некоторое затруднение: этот очищенный от всякой примеси, доведенный до предельной нежности, образ его сына надобно было окружить известным бытом. Одно он решил твердо, – что не даст этому ребенку вырасти, не сделает из него того угрюмого человека, который иногда навещал его в Берлине, односложно отвечал на вопросы, сидел прикрыв глаза и уходил, оставив конверт с деньгами на подоконнике.
«Он умрет молодым», – проговорил он вслух, беспокойно расхаживая по комнате, вокруг открытой машинки, следившей за ним всеми бликами своих кнопок. «Да, он умрет молодым, его смерть будет неизбежна и очень трогательна. Умрет, играя в постели последнюю свою партию». Эта мысль ему так понравилась, что он пожалел о невозможности начать писать книгу с конца. Почему, собственно говоря, невозможно? Можно попробовать… Он повел было мысль обратным ходом – от этой трогательной, такой отчетливой смерти назад, к туманному рождению героя, но вдруг встряхнулся, сел за стол и стал думать наново.