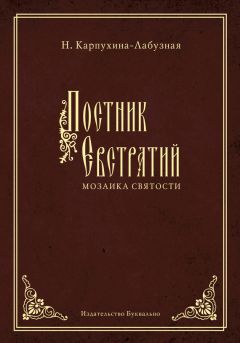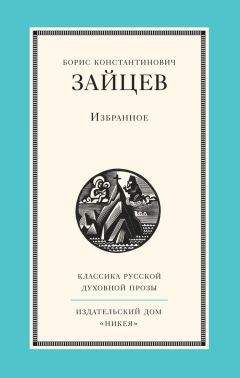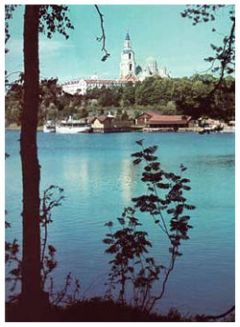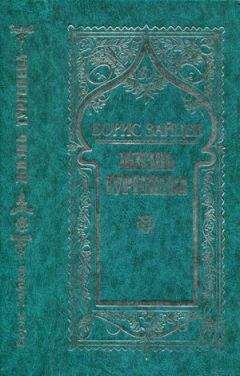Борис Зайцев - Чехов
Он несколько удивлялся сам. Как эта «Степь» на него свалилась? Но завладела не меньше «Иванова», а больше – и насколько плодоноснее! Он писал ее в упоении, целый месяц, весь январь, кончил 3 февраля 1888 года. То кажется она ему «повестушкой», которая его «не удовлетворяет», то считает ее своим «шедевром». То в ней «не пахнет сеном», то «местами пахнет», а в общем «нечто странное, не в меру оригинальное».
Последнее вполне верно. И лучше бы еще сказать: своеобразное. Очень просто, удивительно своеобразно. Из всего тогдашнего в литературе эта «Степь» выделялась необычайно. Так тогда не писали. Но и теперь так хорошо почти не пишут. Прошло шестьдесят пять лет, а ее перечитываешь, точно она вчера родилась. Есть мелкие словесные слабости, есть (чуть-чуть) память о степи Гоголя, есть склонность к олицетворению – вообще-то это «ранняя манера мастера». Но на то он и Чехов, чтобы всю краткую свою художническую жизнь идти в гору. «Степь» же все равно великая удача.
Он не обманулся: это один из шедевров его, и нелепо сказать о ней «повестушка».
«Степь» – одно из самых непосредственных его писаний, именно таких, где сам он мало понимает, что пишет (особенно как доктор Чехов, почитатель Дарвина), и не надо ему понимать. «Степь» просто поэзия, понимать нечего, надо любоваться. Любование такое возвышает, очищает. Влияние «Степи» на человека благотворно, это благословенная вещь. Оттого, когда ее перечитываешь, остается радость и свет, хотя грусть есть и в ней, есть и одиночество, и смерть, и тайна жизни.
Впервые написал тут Чехов русского священника во весь рост. О. Христофор Сирийский легким, веселым духом проходит через повествование, это именно благосклонный дух – «маленький, длинноволосый старичок, в сером парусинковом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе». От него пахнет кипарисом и васильками[4]. Его ничем нельзя ни смутить, ни удивить, он всегда добр и ясен, то, что он говорит, всегда умно и верно, хотя и простодушно. О. Христофор образованный человек, должен был в молодости пойти по ученой части, попасть в академию, но нельзя было бросить стариков родителей, и он остался приходским священником. Егорушку он теперь поддерживает и укрепляет. «Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу». Когда Егорушка заболевает, промокнув в грозу, он его тотчас вылечивает (натирает, с молитвою, на ночь уксусом и маслом) – правду сказать, похоже на исцеление.
А утром возвращается от обедни «улыбаясь и сияя». (Чехов замечает: «Старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние», – вероятно, видел он это в детстве и на собственных родителях.)
И вот, расставаясь с Егорушкой совсем, о. Христофор опять наставляет его: «Ты только учись да благодати набирайся, а уже Бог укажет, кем тебе быть».
Художник Чехов написал о. Христофора первостатейно. Доктор Чехов в письме называет его: «глупенький о. Христофор». Вот это именно и значит не понимать, что сам написал. О. Христофор не только не «глупенький», а умней многих, считающих себя умными: он мудрый. Мудрость его состоит в том, что он целен и светел, верит и любит не рассуждая, но науку уважает, вводя лишь ее под освящение Благодати. Вот он прощается с Егорушкой.
О. Христофор вздохнул и, не спеша, благословил Егорушку.
«– «Во имя Отца, и Сына и Святого Духа». Учись, – сказал он. – Трудись, брат. Ежели помру, поминай. Вот, прими и от меня гривенничек.
Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком».
В то время как Чехов писал свою «Степь», некий юный философ и мистик русский, Владимир Соловьев, говорил о религии, вере, науке, искусстве, сливая все это в сияющем Всеединстве. В ином вооружении говорил, собственно, то же, что и «глупенький» о. Христофор. Но Чехов читал тогда Дарвина, а не Соловьева. Пожалуй, и не знал о нем ничего.
Конечно, о. Христофор не заслоняет собою другого в произведении – самой степи, пейзажа, Егорушки, возчиков, замечательно написанных евреев Моисея Моисеича и Соломона в корчме, – да и вообще по всему повествованию разлита радость изображения Божьего мира – загадочного и страшного, как гроза, но и прекрасного. И одиночество, одиночество! Его нет у о. Христофора (он всегда с Богом, у него нет отъединения), но автор за сценой томится («то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной»).
«Счастливей меня во всем городе человека нет», – отвечает о. Христофор. А собственно, почему? Он небогат, незнатен. Но у него удивительный – и в глубине его лежащий – угол зрения. Он все видит и чувствует легко, потому и сам счастлив и вокруг распространяет «легкое дыхание».
«Грехов только много, да ведь один Бог без греха. Ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть, и все слава Богу».
Но не все, как о. Христофор. Есть в повести и недовольные (несчастные).
Еврейская корчма взята из молодости Чехова. Некогда, возвращаясь в Таганрог, совсем юным, он заболел и лежал в этой самой корчме. Еврей-хозяин с женой заботливо за ним ухаживали. Он в «Степи» изобразил их трогательно, местами уморительно. Но вот брат хозяина, Соломон… – обойденность, отрицание, озлобленность. И бескорыстие притом. И почти отчаяние.
Молодой возчик Дымов скорей из горьковского хозяйства, босяцкого – русская разлюли-малина. И дико хохочет, и фыркает, купаясь, и ни с того ни с сего убивает безвредного ужа, и тоже всё ни к чему, тоже несчастен, заброшен и неудачник, разрушитель и саморазрушитель.
В одном письме того времени Чехов говорит: «В России революции никогда не будет». Слова случайные, да Чехова никто и не возводил в пророки. И не возводит. Революция пришла, не спрашиваясь у него, но эти две фигуры, Соломон и Дымов, – если бы до нее дожили, наверно, послужили бы ей, особенно на первых порах. Потом оба в ней и погибли бы, конечно: оба слишком самоуправны.
* * *«Степь» имела большой успех. Плещеев, благоволивший к Чехову старый поэт и бывший петрашевец, сподвижник Достоевского по эшафоту, редактор «Северного вестника», где «Степь» печаталась, был в «безумном восторге». («Я давно ничего не читал с таким наслаждением».) Двоюродному своему брату Чехов писал: «Повесть еще не напечатана, но уже наделала немало шуму. Разговоров в столицах будет немало». Позже: «Моя повесть… имеет успех. Получаю захлебывающиеся письма».
Критика тоже приветствовала. Нельзя было прицепить «Степь» к какому-нибудь «направлению», «идеям», все-таки прелесть ее все чувствовали.
Начало славы Антона Чехова не так-то хорошо отзывалось на брате его Александре. К этому времени Александр прочно связан уже с Сувориным, пишет, печатается, и фамилия его тоже Чехов. Положение брата знаменитости и вообще-то нелегко, здесь особенно плохо – Александр Чехов тоже пишет рассказы и там же печатает их, где и брат. Один подписывается: Ан. Чехов, другой Ал. Чехов.
Из-за какого-то рассказа Александра Чехова Суворин вдруг впал в раздражение и написал автору грубое письмо на тему: «писать и печатать плохие рассказы можно, но узурпировать чужое имя нельзя».
Положение Александра, неталантливого, выпивавшего, с семьей на руках, зависевшего от Суворина, вполне можно понять. В некотором смысле и брату Антону было нерадостно. Известность, слава – все это хорошо, но за что же ущемлять Александра? Ущемление слабых сильными Чехову всегда было противно. Тут поступил он вполне в своем духе. В длинном, спокойном и благожелательном письме он утешает Александра: Суворин написал грубость под минутой, сам раскаивается и извинится. Подписываться своей фамилией Александр вполне может; рассказ его «очень неплохой», и вообще нет мерки, кто лучше пишет, кто хуже, «взгляды и вкусы различны». Через несколько лет все может и измениться, что же, и ему тогда просить разрешения у брата «расписываться Антоном, а не Антипом Чеховым?».
А конец письма говорит о том, что довольно прочно поселилось в бывшем «юмористе» Чехове. «Смертного часа нам не миновать, жить еще придется недолго», так что пустяки всё это, мелочи литературные.
Осенью того же года ему выпал новый успех: он получил Пушкинскую премию академии (в половинном размере – 500 руб.). Под углом истории событие невеликое: что такое академия и ее премии, да еще половинные, рядом с обликом Чехова, его местом в литературе? Но сам Чехов воспринимал иначе. «Премия для меня, конечно, счастье, если бы я сказал, что она не волнует меня, то солгал бы». Правда, он пишет это тому Григоровичу, который «горой стоял за него в Академии» – письмо благодарственное. Все-таки и по другим письмам видно, что принял он успех остро, но не захлебываясь. Старался даже себя преуменьшить, подчеркивал, что и другие могли бы получить: Короленко, например, если бы послал книгу. А в письме к Лазареву-Грузинскому есть даже фраза: «Все, мною написанное, забудется через 5—10 лет» – слова не совсем случайные. Чехов и позже говорил в том же роде («меня будут читать 7 лет») и оказался таким же плохим пророком, как и насчет революции.