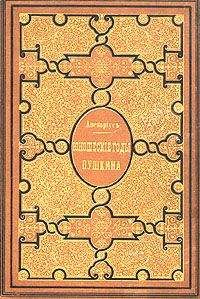Василий Авенариус - Отроческие годы Пушкина
— Старший дядька наш Леонтий Кемерский, — шепнул ему Пущин, — преуслужливый, но и продувной!
Рекомендованный так дядька приблизился к нему между тем уже настолько, что Пушкин различил весьма благообразного, осанистого старика бакенбардиста с целым рядом медалей и крестов на широкой, выпуклой груди и с несколькими почетными нашивками на рукаве.
— Вот, Леонтий, я привел тебе еще новичка — № 14,- заявил ему Пущин.
Леонтий сделал новичку по-военному под воображаемый козырек.
— Здравия желаем вашему благородию! Добро пожаловать! Камера ваша давно по вас плачет.
Достав из кармана полную горсть нумерованных ключей, он пошел назад по коридору и, пройдя несколько камер, остановился перед дверью с черною дощечкой, на которой Пушкин прочел надпись:
"№ 14. Александр Пушкин".
— А посмотри-ка, рядом кто, — сказал Пущин. На соседней двери такая же дощечка гласила:
"№ 13. Иван Пущин".
Пушкин переглянулся с приятелем сияющим взором.
— Сама судьба нас свела!
Дядька тем временем раскрыл настежь дверь и покровительственным движением руки ввел новичка во владение его будущим жилищем.
— Милости просим, сударь! С новосельем-с.
Камера была невелика, но во всяком случае достаточно поместительна для одного человека, тем более для подростка. В ней стояли: под окном — столик, у одной стены — кровать и умывальный стол, у другой — комод с зеркальцем над ним, стул и конторка. Окрашенная в светло-серый цвет с красной каемкой по потолку, освещаемая единственным, но высоким окном, комнатка эта даже теперь, в серый зимний день, имела приветливый, уютный вид. На конторке стояли чернильница и шандал со щипцами (в то время употреблялись одни только сальные свечи, с которых нагар «снимался» щипцами), а на гвоздях у дверей аккуратно были развешаны полотенце и казенная амуниция нового постояльца. Глаза Александра прежде всего с удовольствием остановились на чернильнице.
— И чернила уж налиты! — сказал он.
— Да, чернильная душа, — отвечал Пущин. — Можешь хоть сейчас приняться писать стихи.
— Нет уж, батюшка, ваше благородие, — вмешался дядька, буквально принявший слова Пущина, — перво-наперво дайте им хошь перерядиться, как быть следует.
Выдвинув ящик комода, он достал оттуда белье, снял с гвоздя форменное платье и поштучно стал подавать Пушкину каждую вещь, приговаривая:
— Наша обязанность, сударь, хранить и холить вашу милость, яко зеницу ока. Душевное здравие ваше — дело начальства, за телесное ответствует наша братия, нижние служители, перед совестью и перед Богом.
— Оттого-то он без ведома начальства и снабжает нас всяким контрабандным товаром, — шутливо добавил Пущин.
— А нешто не святая обязанность наша ублажать вашу милость и без воли начальства? — убежденным тоном вопросил Леонтий. — Окромя птичьего молока разве, всяку штуку вам раздобудем… Вот-те на! Совсем ведь из старой башки вон! — хлопнул он себя по лбу. — Память, знать, уж отшибать начинает. Не казните, ваше благородие! Сейчас все справим…
И, положив белье и платье бережно на кровать, он исчез за дверью.
— Куда это он? — недоумевал Пушкин.
— А ты не догадываешься? Ведь он же наш обер-провиантмейстер и вдруг так оплошал: не позаботился приготовить тебе для первого знакомства приличное угощение! Понятно, что тебе нужно будет отблагодарить его. "Сухая ложка рот дерет" — любимая его пословица.
Пушкин машинально хватился рукой за то место, где у него в «собственном» платье был карман; потом, точно вспомнив что-то, насупился.
— Такая досада, право…
— А что?
— Да так…
— Понимаю: денег нет? Ведь ты тогда на Крестовском все до последней копейки издержал?
— Н-да…
— А дядя взятых у тебя на хранение ста рублей так и не возвратил?
— Забыл, конечно…
— А ты, конечно, спросить забыл?
— Не то, знаешь, в голове было…
— Ну, ничего, у меня есть лишние…
И Пущин торопливо вынул свой кошелек, из которого, отвернувшись, достал блестящий, последней чеканки серебряный рубль.
— На вот целковый; будет с него на первый раз.
Пушкин, однако, успел разглядеть, что кошелек товарища был довольно тощ, и, не принимая монеты, спросил:
— Да ведь целковый этот у тебя единственный?
Пущин покраснел и замялся.
— О, нет… — пробормотал он.
— А отчего он такой новенький? Верно, подарил тебе кто-нибудь на прощанье?..
— Ну, прошу тебя, возьми! — умоляющим голосом настаивал Пущин. — У меня тут осталось мелочи, сколько угодно…
И он насильно втиснул рубль в руку приятеля. Сделал он это как раз вовремя, потому что лицейский обер-провиантмейстер Леонтий Кемерский показался уже опять на пороге, нагруженный обещанным «угощеньем». Тщательно притворив за собою дверь, от отвесил Пушкину поклон в пояс.
— Бьем челом вашему благородию хлебом-солью!
После чего самодовольно стал разгружаться и разъяснять:
— Это вот, батюшка-сударь мой, ситный хлеб утрешнего печенья — изволите видеть, какой рыхлый, мяконький! А сверху-то еще золотой паточкой помазан: что ни есть подходящее для балованного барского желудка. Тут вот плиточка царского шоколадцу. Испробуйте-ка, так во рту и тает-с! А здесь пяточек яблочков: небольшие хошь, да чисты, румяны, что твоя щечка девичья. Заправские, крымские! Мал золотник, да дорог.
— Спасибо, братец, — поблагодарил Пушкин и сунул ему в руку только что навязанный Пущиным рубль, — получи.
— И вам, сударь, сугубое мерси! Дай вам Бог доброго здоровья! Нашему брату этих подачек вовсе бы и не нужно, да как отказаться? Еще, чай, в обиду примете! В ину пору я вам и не тем бы еще услужил: чашечкой кофе с бисквитцами, что ли…
— Спасибо, и с этим-то мне разом не справиться, — ответил Пушкин и, отломив половину большущего ситного каравая, принялся с аппетитом уписывать его за обе щеки.
— Кушайте во здравие, ваше благородие! Ну, что скажете, каков хлебец-то? Правду я говорил, не соврал?
— Очень хорош.
— Пряник печатный-с! Да-с, придворный хлебопек-то наш — мастер своего дела; даром что русский человек — всякого немца-булочника за пояс заткнет. И скажу вам теперя, ваше благородие, по чистой совести, значит: за доброту да за ласку вашу от сей минуты дядька Леонтий Кемерский вашей милости покорнейший холоп. Свистните только — и он уж, как в сказке бурка-кавурка, тут как тут.
— У тебя и без меня, я думаю, довольно дела?
— Это точно, верное слово изволили сказать. И прочим-то дядькам работы вдосталь, не сидят сложа руки, а старшему и того паче: за ними, братьей своей, да за инвалидами, что им в помощь даны, гляди в оба, чтобы не баловались, — это раз; лампы да свечи приправляй, за топкой наблюдай, чернила доливай — это два; за исправность и мебели-то казенной, и одежи вашей, и тетрадок, и карандашей, и перьев головой отвечай — три; градусники везде проверяй, чтобы в спальнях, значит, было тепла ни больше, ни меньше, как градусов 12–13, в столовой — 13, в классах — 13 — 14!.. Вот и со счету сбился! Кажись, четыре?
— Да, четыре, — сказал Пущин и, шутя, помог ему далее в счете, — лакомства нам добывай и желудки порть — пять.
— А уж это грех вам, сударь, говорить! Товар у меня самый свежий: сосуну-младенцу в ротик хоть положь — и тот проглотит без вреда для себя. Как перед Богом могу сказать: служу вам, яко ангел-хранитель, денно и нощно глаз над вами не сомкну.
— Зачем же и "нощно"? — спросил Пушкин. — Если мы спим, так отчего же и тебе не спать?
— Нет, сударь, нельзя-с; вы, стало, порядков наших еще не знаете. Днем нам, дядькам, положено дежурить при вас и в классах, и на гуляньи, и за столом, а ночью — ходить, коли дежурство на тебя выпало, вон тут, по колидору, взад да вперед, ровно маятник в часах, посматривать в окошечки направо и налево.
— Для этого-то, видно, и окошечки в дверях у нас проделаны?
— Знамое дело. А не углядишь чего, прозеваешь — ну и жди грозы: нагрянет среди ночи, как снег на голову, либо надзиратель, либо дежурный гувернер…
— Да что же прозевать-то?
— Мало ли что! Хошь бы то, что вы засиделись, заболтались друг у дружки, али с книжкой за полночь лежите, даром казенное сало жжете.
— Да неужели и читать-то ночью нельзя?
— Отнюдь. Я к этим порядкам давно приобык: в пажеском корпусе дядькой же без мала двадцать лет состоял. Зато сюда прямо и набольшим поставлен. Да и где же читать еще вам, сударь, коли ровнехонько в шесть часов каждым утром колокол вас с постели встряхнет?
— Но если для меня чтение все равно, что воздух, если я без него жить не могу!
— Охота, значит, пуще неволи-с? — спросил Леонтий и подмигнул лукаво одним глазом. — Ну, что ж, ваше благородие, на нет и суда нет. Коли у вас уж малодушество такое, что без грамоты вам никак быть нельзя, так от нашего брата, мелкой сошки, вам заказу в том не будет: жгите себе огня, сколько душеньке угодно, а наше дело только подать вам знак с колидору, чтобы врасплох, значит, не застало начальство.